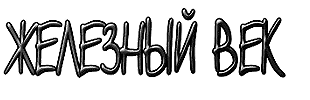
АЛЬМАНАХ "Серая Лошадь №5"
Альманах
выпущен тиражом 500 экземпляров Издательством Дальневосточного
Университета.
Материалы для обсуждения принимаются:
ironage@mail.ru
Александр ВЯЛЫХ Письмо удивительному китайцу
Елена ЗАЙЦЕВА Моя прекрасная лошадь
Евгений ПАНКРАТЬЕВ Пегас, беременный солдатами
Елена ЗАЙЦЕВА Вдохновение – вдох просто. Лошадь – это конь такой...
Виктор ПЕРЕСТУКИН Перепись пиитического имущества
Александр
ВЯЛЫХ
Письмо удивительному китайцу
Заметки по
поводу пятого номера альманаха "Серая Лошадь"
1
Недавно я узнал от художника Олега Подскочина,
вернувшегося из соседнего Китая с преподавательской работы с новыми "постимперскими"
картинами, что в бывшем русском городе Харбине вышло десятитомное собрание
русской поэзии и прозы Китая. Я не поверил, и до сих пор пребываю в
недоумении: зачем китайцам это было нужно? Кто будет читать? Впрочем, этот
факт внушает оптимизм, что лет через пятьдесят найдётся какой-нибудь
удивительный любопытствующий китаец и обратит внимание на альманахи наших
авторов из литературного объединения "Серая Лошадь" и присовокупит лучшие
образцы к культуре Поднебесной.
Да вот уже и Катерина Зизевская,
которая прививает русским стихам иероглифическую визуальность и семантику,
обречённо предупреждает нас в своей коллекции стихов, присланных из Китая:
"Придётся изучать китайский". Тот, кто не захотел подчиняться этому
императиву, уже удалился в метрополию, чтобы не пропасть в безвестности и
забвении русского языка, а кто ещё дальше: Дмитрий Рекачевский овладевает
французским верлибром в Париже, Маша Бондаренко – немецко-швейцарской
словесностью в Цюрихе. Кто следующий? Кто дальше? Мы же остаёмся на пятачке
русской цивилизации и с трудом боремся за культуру своим коснеющим языком.
Что же прочтёт этот удивительный
китаец из будущего в наших книжках? Какой "оптикой" будет прочитывать
произведения наших авторов? Поэтическая деятельность "серолошадников",
несмотря на признание отдельных "фигурантов" в центральных журналах, до сих
пор вызывает непонимание, пренебрежение, а чаще негодование, как в
читательской среде, так и у местной критики. Да что там говорить, и в самом
объединении нет взаимопонимания.
Прислушаемся к голосам противников. Я
постараюсь стать на их ругательную позицию и выяснить, в чём тут дело. Однако
посмотрим на стихи авторов в неожиданном ракурсе – через призму вовсе не
хрестоматийной поэзии Константина Случевского, возьмём его в проводники по
кругам поэтического ада владивостокской поэзии рубежа тысячелетия, и этот
ненаучный приём назовём "оптикой Случевского". Да простят меня просвещённые
читатели за несколько культуртрегерский пафос.
2
Константин Константинович
Случевский родился в год гибели Александра Пушкина – 26 июля, умер 25 сентября
1904 – в год русско-японской войны, на которой во время цусимского сражения
погибает его сын, тоже литератор. Вижу в глазах недоумение, почему именно
Случевский? А вот почему...
Отрицательные характеристики стиля
Случевского, а именно "неясность мыслей и небрежность языка", данная В.
Соловьёвым и другими его современниками, можно в полной мере адресовать нашим
авторам, однако эти черты стали фирменным знаком общего стиля поэзии авторов
альманаха. Валерий Брюсов вторил ему на поминках поэта: "Менее всего
Случевский был художник. Он писал свои стихи как-то по-детски, каракулями, –
не почерка, а выражений. В поэзии он был косноязычен, но как Моисей... Всё у
него выходило как-то нескладно, почти смешно, и вместе с тем часто пророчески
сильно, огненно ярко. В самых увлекательных местах своих стихотворений он
вдруг сбивался на прозу, неуместно вставленным словцом разбивал всё
очарование... Стихи Случевского часто безобразны, но это то же безобразие, как
у искривлённых кактусов или чудовищных рыб-телескопов... Он не мог, не умел
соединить, слить в одно – художественное созерцание и отвлечённую мысль".
Все эти "не" поэтики Случевского
легко наложить на индивидуальный стиль того или иного автора альманаха.
Уверен, – говорю это с досадой, – что никто из представленных авторов
альманаха никогда не читал стихи этого русского поэта. На себя тоже досадую.
Вообще, нынешние поэты стали писать так, будто у них не было предшественников
– ни советской поэзии, ни классической русской, ни мировой. Слов неназванных
стало мало, поэтому в обиход пошла абсцессная лексика. Наши поэты как будто
выросли на пустыре, на пустом месте, вдруг ни с того ни сего. Ведь, надеюсь,
не только желание выбиться в люди, как заявлено в стихах у Денисова,
заставляет авторов писать свои произведения? Что-то ещё большее должно
быть.... В чём смысл их творчества? Есть ли у них мысли? Есть ли
мировоззрение?
Случевский говорит в одном своем
рассказе: "Слёз в глазах и на сердце недостаточно для того, чтобы сделать
великим то или другое своё художественное создание; самолюбие не творчество;
поспешность не залог успеха; обещание не исполнение".
Как это могло произойти, чтобы в
девяностые годы двадцатого столетия на окраине постсоветской империи произошёл
кардинальный слом или отказ от традиционного стихосложения? Просто поэты
захотели писать иначе, стали нарушать языковые конвенции. Размылись границы
стиха и прозы, бытийного и инфернального, добра и зла. Страх и трепет сменился
на драйв и кайф. Поэзия подверглась ревизии – стихийной и сознательной. Поэзия
как будто перестала пользоваться приёмами искусства: рифма, размер, просодия
были отвергнуты, к ним было проявлено пренебрежение. Понятия "профессионализм"
и "неумение" стали почти синонимами. Поэзии было отказано быть искусством.
Фигуры речи опростились до прямого высказывания. Общее для всех разноликих
авторов, пусть и со своей разрабатываемой поэтикой, – это тенденция к
примитивности выражения, стилистической какофонии, инфантильности; порой
поэтический образ сводится к одной графической линии, жесту (Белых, Любарская,
Чегодаева, Ермолаева). Стихи больше напоминают жестикуляцию. Это как бы
транскрипция вербальной поэзии на невербальный язык глухонемых с упрощенной, а
то и упразднённой грамматикой, похожей на китайский язык. Сидоров отмечает,
что "буквы тают, превращаясь в жесты". Меня всегда занимала мысль, как должны
выражать поэзию люди, лишённые слуха и речи – может быть иероглифами?
Возможно, Дмитрий Рекачевский, клоун-мим по своей театральной профессии,
сможет представить нам образец подобного стихотворения?
У Даниила Хармса есть притча.
"Человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык, и человек онемел.
Но не сдался, а научился показывать дощечки с фразами, написанными буквами, и
при этом, где нужно, рычать, а где нужно, подвывать, и этим воздействовать на
слушателей ещё более, чем это можно было сделать обыкновенной речью". Замените
слово "оратор" на "поэт" и получится портрет "серолошадника". Вот как выразила
талантливая и обаятельная Галина Петрова девальвацию традиционных ценностей
поэзии:
Вдохновение?
А ты попроси у помятого гения,
поклянчи глазами – дохнёт перегаром и скажет
что-нибудь мудрое, верное, вечное...
В общем, лажу.
Если пьяный поэтический гений скажет что-нибудь мудрое, верное, вечное, то это
окажется лажей. Это диагноз всех или частный случай? Это что, явление
надломленного или поверженного духа? Я полагаю, что эта тенденция идёт не
столько от оскудения духа, сколько от стремления к непосредственному
мысле-слово-чувство-выражению без всякой искусственности – одним словом, к
естественности, обнажённости образа. Другое дело, что часто авторам не достаёт
пластичности языка, поэтому стихи получаются рубленные, как солома, или как
болванка скульптора, заляпанная кусками глины. Не всегда попытка освободиться
от условностей обычного стихосложения приводит в выразительности, если стихи
продолжают неповиноваться "внутреннему размеру настроения" и мысли. Этот приём
обнажения довольно смелый, но и жестокий. Ведь при его наличии нельзя уже
прикрыть поэтическими одеждами ни красоты, ни убогости человеческого духа.
Красота перестала быть идеалом.
Критик Андреевский в статье "Вырождение рифмы" ещё в 1901 году писал об
окончательном освобождении от уз стихотворных правил в новой поэзии, на что В.
Брюсов резко возражал ему: "Современный стих должен подчиниться вибрации души
художника, а не счёту стоп. Каждый стих, а не целое стихотворение, должен
иметь свой размер, в зависимости от того, что выражает. Слова, сходство
которых достаточно отмечает конец стиха, уже признаются созвучием, не обращая
внимания на то, "точная" ли это рифма или только "ассонанс". Наиболее
совершенные образцы этого нового "свободного стиха (Vers libre) можно найти в
творчестве Верхарна, Вьеле-Гриффина, Эверса, Делиля".
На мой взгляд, эти принципы стиха были воплощены в поэзии приморского поэта,
бывшего зэка Геннадия Лысенко (1942-1978). Никто после него не смог выразить
то, что сказал один заключённый в письме к Ахматовой, сказав об одном её
стихотворении как о "раненой простоте чувства". Вот такие, например, его стихи
запомнились мне с советского времени. В армии, чтобы не заснуть в карауле, я
читал его книжку стихов "Меж тем и этим сентябрём".
На вырост ли,
с расчётом на износ ли,
но сердца – больше чуточку,
чем надо.
И ощущаешь это уже после,
как ощущаешь после листопада
ту пустоту,
когда светло и грустно,
ту красоту,
когда, дела итожа,
уходит осень,
а избыток чувства
проходит по рукам гусиной кожей.
В этом "буддийском" стихотворении бездна смыслов. Оно написано как будто двумя
взмахами кисти на тонкой рисовой бумаге. Оно звучит как декларация
суггестивной поэзии, открытой французскими символистами. В поэтическом слове и
в сердце должно быть чуточку больше сказанного. Ведь об этом же говорили и
старые японские поэты. Это выразилось у них в эстетической категории "ёдзё ёэн"
– "избыточного очарования вещей". Как в унисон мыслят разные поэты разных
культур и эпох! Ещё пример чистых вибраций души.
Сквозь мысли о хлебе
врывается в сон
весеннее – лепет,
осеннее – звон.
Их смысл бескорыстен,
их память свежа.
И требует истин
живая душа.
Вот же случай подбрасывает книги! В прихожей местной библиотеки стояла стопка
книг, принесённых горожанами, но забракованных библиотекаршами. Добротные
книги. Среди них томик Константина Случевского. Я подобрал. Он простоял у меня
на книжной полке до последнего времени, почти пятнадцать лет, непрочитанным.
Читаю у него саркастическое стихотворение о той будущей поэзии, которую мы
сейчас имеем в нашем альманахе.
Ты не гонись за рифмой своенравной
И за поэзией – нелепости оне:
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарёю плачущей на каменной стене.
Ведь умер князь, и стен не существует,
Да и княгини нет уже давным-давно;
А всё как будто, бедная, тоскует,
А от неё не всё, не всё схоронено.
Но это вздор, обманное созданье!
Слова – не плоть... Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье,
Как нет в них также сил на то, чтоб убивать...
Нельзя, нельзя... Однако преисправно
Заря затеплилась; смотрю, стоит стена;
На ней я вижу, ходит Ярославна,
И плачет, бедная, без устали она.
Сгони её! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить
И нас, то здесь – то там, тревожить и смущать!
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна всё-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...
Случевский, кажется, первым в русской поэзии почувствовал утрату пушкинской
гармонии стиха. В первую очередь он сам утрачивает эту гармонию. Он получил
философское образование в Гейдельберге и мятежный дух – "я богу пламенно
молился, я бога страстно отрицал" – постигал рациональным умом, веря в
позитивизм науки. В стихах, однако, он больше походил на "естественного
мыслителя", доходящего до всего своим умом, чем на профессионального философа,
что можно было бы принять за одну из его поэтических масок. Этим он будет
напоминать поэтов из Объединения Реального Искусства.
Считается, что постмодернизм, – это художественный приём, выставленный
напоказ; когда обнаруживается авторское присутствие в тексте, когда приём
демонстрируется читателю, автор как будто говорит: смотрите, как я делаю
стихи. Никакого чуда! В поэзии Случевского нет тайны творчества, таинственной
темноты, как у Тютчева и Фета. Видно, как срублены его стихи. Они кажутся
неумелыми, наивными по форме выражения, грубыми, фактурными; он порой
пренебрегает рифмами; в его стихах всё сказано до последнего слова, вы не
услышите намёка, аллюзии; его стихи входят в сознание так, как топор входит в
деревянную чурку, он не жжёт лучины, а бросает в костёр поэзии целые поленья.
В чаду какого-то кипенья
Несёт волшебница дрова,
Кладёт в костёр, и песнопенья
Родятся силой колдовства!
Сгорает связь меж мной и ими,
Я становлюсь им всем чужой
И пред созданьями своими
Стою с поникшей головой...
В стихах наших авторов тоже нет чуда. Это слово из другого обихода. Оно
старомодно. Вместо него пришли технологии. В политику пришли политтехнологи по
манипуляции сознанием, а в искусство – эстетические технологии. В
постмодернистскую эпоху чуда нет в принципе. Разве?
Кстати, небольшое отступление. Я сохранил в своей памяти это ощущение чуда
стихотворства из школьных лет, когда в начальном классе появился новый
мальчик, приехавший из Тбилиси. Я забыл, как его зовут, какое-то грузинское
имя. Первое, что стало о нём известно, так это то, что он сочиняет стихи. Я
попросил показать стихи. Это было стихотворение про вишню – она была то ли в
цвету, то ли в снегу... С орфографическими ошибками, каракулями. Это было чудо
– и стихи, и каракули, и ошибки. Я верил, что он не просто мальчик, мой
одноклассник, но и поэт. Я решил тоже написать стихотворение, но почему-то
по-немецки...
Стилистика стихов Случевского отсылает в предшествующий восемнадцатый век – к
Тредиаковскому, Державину, Хераскову. В стихах он вслед за Достоевским говорит
о диалектике зла, выступающего в обличье добра. В них есть пространство мысли
и чувства, но нет того, что древние японцы, повторимся, называли "избыточным
содержанием, сверхчувственностью", одним словом суггестии. Владимир Соловьёв
так характеризовал стихотворный дар Случевского: "Его стихотворения <....>,
при несомненном лирическом даровании, показывают недостаточно критическое
отношение автора к своему вдохновению, и едва ли у какого другого поэта рядом
с истинно прекрасными произведениями можно найти такие и столькие странности,
как у г. Случевского". Какие точные слова для наших авторов! Повторю ещё раз:
"недостаточно критическое отношение автора к своему вдохновению".
Восторженно принятый в начале своего творчества, он вскоре был побит
демократической критикой и замолчал на двадцать лет, продолжал сочинять, что
называется, в портфель. Стихи его пронизаны едкой разъедающей иронией в духе
немецкого романтизма. Одно из его ранних стихотворений обозначено "Из Гейне".
С целью обнаружения аналога этого стихотворения я пролистал все пять томиков
Генриха Гейне на немецком, изданном в 1981 году в "Aufbau-Verlag Berlin und
Weimar". Прототип не обнаружился, но сразу стало видно, как кривит рот
немецкая муза Гейне в стихах Случевского. Эта ироническая интонация у наших
авторов, кажется, прорастает из немецкой романтической поэзии. В поэзии
постоянно реализуется поэтика сдвига на разных уровнях речи – ритмического,
стилистического, лексического, семантического.
Тогда я не помышлял о поэзии и питал любовь только к немецкому языку, изучая
язык по стихам немецких поэтов. Это было время, когда казалось, что воздух,
которым ты дышал, проезжая по просторам страны, отпускался по карточкам.
Воздуха не хватало всегда. Примерно то же ощущение внушается стихами
Случевского. Его стихи живописуют просторы Севера, природу, горние выси духа,
инфернальные глубины человека, бессознательное, сон души. Он писал стихи
книгами, выступая каждый раз под разными масками, от лица персонажей –
мыслителя, странника, лирика, сказочника, Мефистофеля, "одностороннего
человека", отшельника, визионера загробного мира.
Теперь эти маски можно было бы назвать постмодернистским приёмом, столь явно
обозначенным циклами его стихотворчества. В конце жизни Случевский сблизился с
символистами и декадентами. Они приняли его, публиковали в своих журналах.
Будем же и мы считать его своим предшественником. Пусть будущий удивительный
китаец изучает наши стихи совместно с поэзией Случевского. Думаю, что не
всякому автору альманаха придётся по душе такая родословная, как и мне самому,
но её не выбирают. У меня другие вкусы. Вкусы вкусами, а знание знанием.
Удручает только в наших поэтах леность мысли, в отличие от мятежной мысли
Случевского. Или мысль уже не орудие поэзии? Поэзия – это самовысказывание в
поэтической форме, в какой прихотливо выражается дух. Это как дыхание на
холодное стекло небытия, когда на нём застывает рисунок или узор. Кстати,
здесь впору вспомнить древнекитайского поэта Ван Вэя с его идеей поэзии как
узора. Этот узор нельзя откорректировать, отредактировать, подкрасить,
поставить в рамку или даже опубликовать. Кто чем дышит... Разучившись
искусству, авторы альманаха, кажется, перестали думать о постановке дыхания.
Поэты, вступая в отношения с миром, становятся трансляторами речи других
вещей: у каждой вещи свой язык, и дело поэта донести эту речь и не спутать со
своей речью, тем более не выдать за свой язык. Большинство наших поэтов плохо
слушают самих себя, не говоря уже о чужих голосах. Глухота – это их общее
свойство. Они не слышат, поэтому не умеют выражать. Если ухо поэтов альманаха
к чему-то и прислушивается, так это к хаосу и дисгармонии своего внутреннего
мира. Мир гармоничен, сколько добра и зла было в нём, столько и осталось.
Другое дело, что зло изощряется в своем искусстве. Может быть, это знак добра,
что современное поэтическое искусство с приставкой "анти" демонстрирует свою
бесхитростность, не пытается обмануть иллюзией?
Беда Случевского была не в отсутствии художественного дара – напротив, все эти
неумелости и странности обладают обаянием и производят сейчас на меня такое
сильное впечатление, что я удивляюсь тому, как долго не мог подобрать ключ к
прочтению его стихов – беда его была в том, что он сознательно выключил себя
из активной литературной деятельности на двадцать лет, продолжая писать, но не
публиковать в журналах, а, следовательно, оградив себя от справедливой
критики. Та же самая объективная беда у наших поэтов Владивостока – они лишены
литературной среды, возможности публикаций, заслуженной критики, осмысления.
Для Случевского поэзия была сопряжена с мечтами – они влекли его "как крики
совести Иуду". Это цитата из стихотворения из старческого цикла "Из уголка"
(1895-1901). Выстраивается парадигма: поэзия – мечта и крики совести Иуды из
ада. Если перенести эту формулы на поэтов альманаха, то трудно даже
представить, что стоит за знаком тире. Не у каждого поэта есть в уме такая
формула. Скорей всего, поэзия – это место смерти и те же самые крики, но без
раскаяния. Это стихи Александра Белых ("Родина"), Елены Васильевой ("Сегодня
утром меня разбудили чайки"), Маши Бондаренко ("Когда увижу себя в гробу"),
Татьяны Зимы. Вот что пишет Дмитрий Настич:
Мои стихи в бумажных гробиках
Лежат. А мне уже не жаль.
Морщинки строк на белых лобиках
Избороздили пастораль.
Я захожу в их склепы изредка.
Любитель дыма и огня -
Я им напоминаю призрака.
Я жгу стихи. Они – меня.
Die alten, bo"sen Lieder,
Die Tra"ume schlimm und arg,
Die la?t uns jetzt begraben,
Holt einen gro?en Sarg.
Дурные, злые песни,
Печали прошлых лет!
Я вас похоронил бы,
Да только гроба нет
(Перевод В. Левика)
Помнят ли наши авторы, в какое узилище ада поместил Данте поэтов? А за что?
Все их песни – крики, вопли, скрежет – оттуда! И всё – "нелепости оне"! Они
такие же визионеры своего экзистенциального ада, куда художественное
воображение приводило такого благополучного камергера и чиновника господина
Случевского, пророчившего в стихах о грядущем полузвере.
Бродский писал, что поэт начинает писать с того места, где закончил
предыдущий. Случевский был последним поэтом для авторов "Серой Лошади" – после
него они начали своё творчество в начале 90-х годов. Современность наших
авторов оказалась, так сказать, ретро-современностью. Их стихи как бы
подхватывают мотивы "Загробных песен" Случевского. Именно отсюда, из
инфернального бытия начали восхождение наши владивостокские поэты. За всем
этим адом наблюдает из своего "пятого угла" Алексей Сидоров.
Нелегко и противно
Быть полем борьбы между злом
И добром, между светом и тьмой,
между горем и счастьем...
Это наш провинциальный ад -
Здесь в ходу котлы и сковородки,
Черти слишком много говорят,
Женщины – одни уродки.
Это небо прекрасно потому, что оно пустое.
На огромной поверхности нет ни облака. Нет и Бога.
На остывающий труп безнадёжной любви
Как вороны летят тяжёлые капли с пера.
Первый весенний снег. Или просто пепел
От старушки-зимы. Третьего дня скончалась.
DELIRIUM
А вы, уже отброшенные миром,
висящие на собственной аорте,
какие вам стихи и песнопенья?
Какие, к бесу, благости о музах?
Шнырять по коридорам мирозданья,
Предчувствуя бессмертную кончину,
И, корча соприсутствующим глазки,
Держать в кармане фигу с маслом постным,
И постную, опять же, строить мину,
И, в результате, – подорвать устои,
И помахав приветственно рукою,
Со знаньем очень выросшего долга,
Убраться в неглубокую могилу -
Вот счастье, что маячит перед вами!!!
У меня есть подозрение, что подлинные стихи – это сквозные раны времени,
соединяющие отдалённые эпохи. Это как будто те самые "складки" в
пространственно-временном континууме, через которые возможно странствие во
вселенной за короткий срок, о чём вроде бы намекают нам физики. Не знаю,
знаком ли Алексей Кухтин с немецким языком и поэзией немецкого
экспрессионизма, а в частности с одноимённым стихотворением австро-венгерского
поэта Георга Тракля (1887-1914), но созвучие стихов двух разных поэтов и
удивляет, и радует, и ужасает. Тема смертности рисуется им несхожими образами,
но с той же экспрессией – разве что у Кухтина грубее и злее. Тракль отрешён от
описываемой им картины; Кухтин, напротив, активно вовлечён в процесс смерти.
DELIRIUM
Der schwarze Schnee, der von den Da"chern rinnt;
Черный снег, что с крыш течёт;
Ein roter Finger taucht in deine Stirne
Красный перст окунается в твой череп
Ins kahle Zimmer sinken blaue Firne,
В голой комнате голубые залежи снегов
Die Liebender erstorbene Spiegel sind.
Влюблённые в разбитом зеркале лежат.
In schwere Stu"cke bricht das Haupt und sinnt
В осколках толстых голова расколота,
Den Schatten nach im Spiegel blauer Firne,
Задумалась над призраком зеркальным в вечной синеве снегов,
Dem kalten La"cheln einer toten Dirne.
Над ухмылкой хладной мёртвой девки.
In Nelkendu"ften weint der Abendwind.
В аромате гвоздики хнычет ветер вечерний.
Старейший из наших поэтов, представленный в альманахе, органично вошедший в
поэтическую среду "серолошадников", – это Валентина Андриуц, которую можно
было бы представить, в фигуральном смысле, как современную японскую
продвинутую поэтессу, сочиняющую стихи в жанре короткого стихотворения –
танка, или "гэндайси"1 . Её талант проявился в начале восьмидесятых, когда
она выступила с книжкой удивительно гармоничных стихов "Бухта Светлая". Читая
её нынешние образцы, обнаруживаешь, какой серьёзный сдвиг произошёл в поэтике
её стиха. То есть, можно сказать, что перелом случился не только у поэтов
90-х. Это изменился состав воздуха. Юрий Кабанков, ровесник Валентины Андриуц,
вообще отказался от поэтического творчества, перешёл на другое дыхание, другие
стали как-то неслышны.
Каждый ходит по своей излюбленной тропке. Только у Татьяны Зимы нет своей
тропинки в этом аду, нет своего убежища, нет заступника. Она сама вихрь,
водоворот – vortex образов.
Елене Васильевой нет никакого дела до постмодернистских акций, до его приёмов,
до актуальности, однако она принимает правила игры поневоле, тайно защищаясь
молитвами, а потому ей ближе ритм акафиста. Творчество её произрастает из
контрадикции научного мышления и метафизического. Однажды этот голос молитвы
возвысится в ней, и она освободится он наваждения инфернальных песен своих
товарищей.
Алексей Сидоров живёт в этом аду как "прекрасный карась" – по-тихому и
боязливо, защищаясь вырождающейся просодией и рифмой. Стихи его несут печать
смертности, если не смерти и героя его и самого автора. Его рифма затухающая,
он хватает её ртом, как последний пузырёк воздуха.
Белых защищается иронией и говорит, что не верит в ад, вступая в противоречия
со своими же обращениями к Богу. В борьбе за смысл он доходит до краха мысли и
онтологической пустоты.
Константин Дмитриенко свой психо-сексуальный ад обосновал в Валгалле, и
чувствует себя там уютно, пьёт не иссякающее медовое молоко козы Хейдрун среди
храбрых скандинавских воинов.
Предприимчивая Юля Шадрина думает, что она занимается постмодернистской
литературой и намеревается нажить в аду капитал на верлибрах.
Виталий Бурик заслушался адскими песнопениями, и тоже стал неумело и нехотя
подпевать на новый манер не свойственным ему голосом.
Крыжановский и Шугуров ад превратили в художественную мастерскую, разукрасили
её картинами-"иконами" и сказали, что жить можно – как Хармс и Введенский с их
экзистенциальным и аграмматическим абсурдом.
Маша Бондаренко, воспользовавшись новейшими технологиями, реальность
конвертировала в филологический ад, каждому наивному поэту-отшельнику отвела
культурную пещеру и установила ритм дыхания.
Юная и весёлая Галя Петрова подумала, что это карнавал и волхование, радостно
запрыгала через лужи в кровавых отсветах огней. Может быть, ей больше всех
повезёт, и она выберется из этого трагедийного хора. В ней есть свет...
Смысл творчества этих авторов становится чуточку внятным. Быть может на их
голос придёт читатель, сжалится над ними и выведет их из адского лабиринта...
Конечно, прибегнув к "метафизической оптике Случевского" и бросив на
творчество наших авторов поверхностный и немного иронический взгляд, следовало
бы для равновесия мысли воспользоваться увеличенной оптикой другой поэтики,
чтобы рассмотреть особенности стиха каждого поэта в отдельности. Уж тогда-то
выяснится внутренняя диалектика нового стихосложения и поэтики. И всё
несуразное и нелепое, авось, обретёт в сознании читателя законченный смысл.
Коль наши поэты, как выяснилось, начали писать после Случевского, то скорей
всего они оказались бы под влиянием, скажем, декадентов, имажинистов и
авангардистов с той лишь разницей, что у них (за исключением декадентов)
будущее представлялось в ярком свете, чем у нынешних авторов. Принимаем это
как сомнительное допущение. Всё же пропустим наших поэтов через насыщенный
раствор имажинизма и посмотрим, какие соляные изваяния кристаллизуются в
результате этого эксперимента. Да, поэзия сродни алхимии...
3
Вадим Шершеневич в статье "Кому я
жму руку" (1924), писал, что "аритмичность, аграмматичность и
бессодержательность" – это "три кита поэзии грядущего завтра", и что "ритмика не
свойственна поэзии вообще, и чем ритмичнее стихи, тем они хуже".
И вот, дорогой читатель, если ты
возьмёшь за руководство это высказывание русского имажиниста Шершеневича и
прочтёшь с этими лекалами стихи наших авторов, то наверняка согласишься, что
владивостокские поэты 90-2000-х годов давно культивируют поэтику имажинистов.
Все "три кита" присутствуют! Если вы вспомните, что имажинизм – от слова
"imago"2,
то есть образ или икона по-гречески – изобрели английские и американские
модернисты Ричард Олдингтон, Эзра Паунд, Х. Дулитл, Эмми Лоуэлл, У. К. Уильямс
(его у нас успешно переводит Иван Ющенко) и др., полагаясь на недавно открытую
японскую поэзию хайкай и танка, а также китайскую и древнегреческую поэзию, то
станет понятно, откуда дует ветер, что всё возвращается на круги своя, к нашим
дальневосточным истокам .
Стало быть, поэзия, представленная в
альманахе "Серая Лошадь", более как уместна во Владивостоке, что она на своём
топосе, в окружении восточных культур и традиций. Круг завершён. Начинается
новый виток. И вот уже в объединение приходит новое поколение авторов – Кира
Фрегер, Иван Гавва, Артур Гореев, Иван Кожин, Линда Блинова, Маша Лошакова.
Необходимо более сознательно использовать метод. Ведь поэтики, как звёздные
системы, рождаются всё из тех же пылевых облаков – вещи, образа, метафоры,
метаметафоры, идеи, концепта, символа.
Теоретик имажизма – так они
назывались на Западе – Т. М Хьюм в соответствии с его "доктриной образа"
настаивал на том, чтобы создавать конкретные визуальные образы, которые могут
"остановить вас прямо на улице". Он говорил, что "образы в стихе не просто
декорация, но сама суть интуитивного языка". Эзра Паунд так выразил главные
заповеди имажистов (A Few Don`ts by an Imagist): "Не используйте ни одного
лишнего слова, особенно прилагательного, которое бы не выявляло чего-либо
нового. Бойтесь абстракций. Не повторяйте в посредственных стихах того, что было
сделано в хорошей прозе... Не стремитесь казаться сверхоригинальным... Избегайте
описательности..." Эти заповеди были опубликованы в марте 1913 года в журнале "Poetry"
в статье Флинта "Имажизм". К этим предостережениям Флинт добавил своё
требование: "творить в соответствии с музыкальным ритмом, а не метрономом,
непосредственно, прямо выражать сущность явления". Ричард Олдингтон, автор
знаменитого романа "Смерть героя", вспоминал: "Мы хотели выбросить на свалку
устаревшие формы, избитые штампы и передать как можно естественнее собственное
видение и отношение к миру. Мы были молоды, и совершенно всерьёз готовы были
голодать и терпеть лишения ради поэзии, которую надеялись создать". Из-за гибели
Хьюма на фронте в 1917 году доктрина образа осталась неразработанной. Так что
нашим авторам-серолошадникам – стихийным бессознательным имажинистам – есть над
чем ещё поразмышлять.
Эзра Паунд считал, что "прямой образ"
помогает избежать риторики в стихотворении, и в отличие от Т. Э. Хьюма большое
значение придавал принципу музыкальности, которую понимал шире, чем
мелодичность. Он был убеждён, что у плохих поэтов "музыка и поэзия, мелодия и
версификация, разъединённые, впадают в маразм". По-разному смотрели поэты на
соотношение поэтического и прозаического слова. Эзра Паунд сближал эти
стилистически разные пласты языка, двигаясь в русле современной тенденции в
сторону языка улиц. Для Паунда образ – это то, что связано с визуальным
восприятием: "есть вид поэзии, которая напоминает застывшую в слове скульптуру".
Это понимание сближало взгляды поэтов. Однако Хьюм не разделяя мнения Паунда в
том, что "образ – vortex – это вихрь, концентрация, слияние далёких друг другу
идей". Здесь уместно вспомнить Ломоносова, который говорил, что поэзия – это
сопряжение далековатых идей. Хьюм утверждал, что "идея в произведении – ничто".
К 1917 году у Паунда сложилось
представление о поэзии как об искусстве трёх видов: "фанопея" – поэзия
зрительного образа; "мелопея" – поэзия мелодического типа; "логопея" –
интеллектуальная поэзия. Все эти требования неизбежно привели имажистов к
верлибру на манер древнегреческого безрифменного стиха. Олдингтон называл свои
стихи – ритмами. Так писал Гейне, Уитмен, французские верлибристы. Флинт называл
свой стих "нерифмованной каденцией" (unrhymed cadence). На музыку ориентировался
Паунд. В своих заповедях он писал: "Не формуйте свой материал в рублённые ямбы.
Не заставляйте каждую строку замирать в конце, а следующую начинаться с подъёма.
Пусть начало следующей строки подхватывает подъём ритмической волны, если вы не
хотите длиннющих пауз. Короче, поступайте как музыкант, как хороший музыкант,
когда вы имеете дело с той областью вашего искусства, которая более всего сходна
с музыкой. Повинуйтесь тем же законам – и вы будете свободны от остальных".
В конце этого исторического обзора
вновь вспомним русских имажинистов – Сергея Есенина, Рюрика Ивнева, Анатолия
Мариенгофа, Вадима Шершеневича. В декларации они восклицали: "О, вы слышите в
наших произведениях верлибры образов!".
Вспомним Иосифа Бродского, писавшего
в рецензии на книгу стихов ленинградского поэта Геннадия Алексеева "На мосту":
"Не обладая основным формальным признаком поэзии – рифмой, стихи, представленные
в этой рукописи, имеют к поэзии самое непосредственное отношение... Рифма и
метр, обеспечивающие гармонию, с успехом заменены в стихах Г. Алексеева
диалектикой сюжета, пафос – точностью слов, эффектные концовки – логикой
мысли... Главный эффект, производимый верлибром, это – чудо обыденной речи".
Я жалею, что в руки мне не попали
трактаты удивительного человека Александра Туфанова (1878-?) – можно сказать,
отца ленинградских поэтов-заумников, продолжателя Велимира Хлебникова. В своей
"Декларации" Туфанов говорит о "слове-образе" и "фразе-образе". Обэриуты мечтали
о голом слове. Даниил Хармс говорил о текучем мысли-образе. В этот ряд я бы
добавил ещё "стихотворение-образ". Этот приём нередко реализуется в творчестве
А. Белых, Ю.Шадрина, В. Андриуц. Всё это я проговариваю скороговоркой, лишь даю
направление для самостоятельной мысли наших авторов.
У Юрия Олешы встретил реплику по
поводу излишества красок в рассказах Ивана Бунина, которую я готов отнести к
определению имажинизма. Он пишет: "Бунин замечает, что, попадая на упавший на
садовую дорожку газетный лист, дождь стрекочет (курсив мой). Правда, он
стрекочет, лучше не скажешь. То есть и не надо говорить лучше, это, выражаясь
языком математики, необходимое и достаточное определение... Но есть ли
необходимость выделять из повествования такую деталь, которая сама по себе есть
произведение искусства <...>?" Кто еще не знает в общих чертах, что такое хайку
(прообраз имажинистской практики), так вот вам определение Юрии Олешы: "деталь,
которая сама по себе есть произведение искусства". Если вам кажется, что
имажинизм – это литературное течение, существовавшее в 10-е – 20-е годы, то вот
вам образцы имажинистского мышления Гоголя, на которое обращает наше внимание
Юрий Олеша. Это дороги, расползающиеся как раки; это чашки, сидящие как чайки на
подносе полового; это расшатанные доски моста, приходящие в движение под
экипажем, как клавиши и т.д.
Сочиняю эту статью. Вдруг раздаётся телефонный звонок. Это приятель, уже
подшофе, сходу просит меня сочинить к его застолью хайку про навагу, которую они
поймали, а теперь дружно уплетают. Не кладя трубки, я читаю:
Подлёдный лов —
Навага целится на блесну
Окосевшим глазом.
Теперь, читатель, ты вооружён теорией, чтобы самому определить достоинства и
недостатки поэзии наивных или стихийных владивостокских имажистов (или
имажинистов), ещё не отрефлексировавших приоритеты своих художественных приёмов
и потому пребывающих в эстетической растерянности. У каждого свой стилистический
налёт – экспрессионизма, постмодернизма, постконцептуализма и т. д. Образ – это
стихийный и первейший элемент художественной речи. В стихах авторов альманаха
этот приём преобладает над другими.
4
Куда бы ни двинулась строка поэта, она вливается в то или иное уже известное
русло поэтики, однако, кажется, что на поэтической карте ещё не все русла
обозначены картографами. Наши поэты, следуя вибрациям своей души, создают свои
ритмы, свои образы – у кого-то они более или менее устойчивы (смиренный
Сидоров), а у кого-то – это хаос образов (бунтующая Зима).
Наиболее заметный практик этой поэтики – Алексей Денисов, его стихи напоминают
развёрнутые хайку, если представить себе, что хайку – это сжатая пружина, то его
стихи – это хайку с высвобожденной энергией. Японское стихотворение в жанре "хайку"
– это образец стихотворения-образа. Стихи Денисова можно урезать до трёх
образов, чтобы получилось трёхстишие. Сам персонаж его стихов, соприродный
автору, напоминает господина Дж. Альфреда Пруфрока из поэмы Т.С. Элиота,
близкого к имажинистам поэта, чью поэму "Бесплодная земля" подверг жестокой
редакции Эзра Паунд. Когда читаешь стихи Денисова, так и слышится голос этого
персонажа, напевающего свои любовные песни. Кажется, что его стихи писал Пруфрок.
Я старею лысею болею
и хочу сказать пока из ума не выжил
что чем дальше жить тем меньше виднее
и что если так пойдёт то тогда понятно
А вот что поёт безвольный, неуверенный и растерянный персонаж Элиота: "И,
конечно, будет время/ подумать: "Я посмею? Разве я посмею"/ Время вниз по
лестнице скорее/ зашагать и показать, как я лысею, – / (Люди скажут: "Посмотрите,
он лысеет!"/ Мой утренний костюм суров, и твёрд воротничок, / Мой галстук с
золотой булавкой прост и строг – / (Люди скажут: "Он стареет, он слабеет!"/ Разве
я посмею/ Потревожить мирозданье? Каждая минута – время/ Для решенья и сомненья,
отступленья и терзанья".
Этому элиотовскому персонажу очень близки, почти родственники, лирические герои
Кухтина и Сидорова. Cтих у последнего, в отличие от Денисова, не культивирует
приём "сдвига и смещения", также характерный для Элиота. Вот как господин
Пруфрок характеризует себя: "Нет! Я не Гамлет и не мог им стать;/ Я из друзей и
слуг его, я тот, / Кто репликой интригу подтолкнёт, / Подаст совет, повсюду тут
как тут, /Услужливый, почтительный, придворный, / Благонамеренный, немного
туповатый, / По времени, пожалуй смехотворный -/По времени, пожалуй шут./ Я
старею...я старею.../ Засучу-ка брюки поскорее./Зачешу ли плешь? Скушаю ли
грушу? Я в белых брюках выйду к морю, я не трушу./ Я слышал, как русалки пели,
теша собственную душу". (Пер. А. Сергеева). Читатель может вспомнить реплику
шекспировского Фальстафа: "Я старею...Я старею..." Кажется, не случайным у
Сидорова стихотворение о двух бездеятельных персонажах знаменитой пьесы
Шекспира.
Среди осенней тлеющей листвы
И нитки дыма я ещё услышу,
Что Розенкранц и Гильденстерн мертвы.
Но правды нет ни в Дании, ни выше.
И голос Гамлета в шуршании листвы
Сказал, чуть слышен в общем шуме леса,
Что Розенкранц и Гильденстерн правы,
Но как некстати оказались в пьесе.
В соответствие с характером персонажа лирики Сидорова у него подбираются тусклые
и невзрачные образы, в них видна потёртость и даже замусоленность, они органичны
в стихе и производят впечатление как от образов в старинных японских стихах (Мацуо
Басё), культивировавших эстетику "саби", что считалось высшим проявлением
поэтичности. Вообще, это противоречивое и неожиданное чувство: получать яркое
впечатление от тусклого образа и неэнергичного ритма. Среди его образов бывают и
яркие: "иероглифы веток", "души голые ветки покрываются зеленью", "и легла на
колено грязным бинтом угловатая, как подросток, луна", "и только любовь, как
кошка бездомная, всё тёрлась о ноги, ласкаясь и жалуясь".
Алексей Кухтин, представленный только во втором, четвёртом и пятом альманахах
(363 строками), создаёт невменяемые образы и на первый взгляд кажется, что его
стих движется в сторону обэриутовской игры – это стихи первых двух публикаций,
но в последующих стихах сдвиг и смещение становится ощутимым на уровне
онтологии, а не психологии, как у Денисова, или игрового абсурда Шугурова, а это
вам не "урлы-мурлы"! Его поэтические угрозы, его поэтический делириум (бред со
зрительными галлюцинациями) пострашнее, чем у этих двух авторов. Его выдвигаю в
авангард серолошадников.
Другая группа имажинистов – Катя Зизевская, Катя Чегодаева. Валентина Андриуц,
Лидия Чередеева, Наталья Ермолаева. Их образы направлены внутрь, это
интровертные и центростремительные образы, в отличие от центробежных образов
Татьяны Зимы с их рваными и широкими ритмами. Но те и другие оставляют
впечатление фрагментарности, незаконченности. Это образы, в которых есть энергия
движения, текучесть. Можно сказать, что поэзия Татьяны Зимы и Александра Белых –
это не излияние эмоций, а бегство от них. Элиот говорил, что "быть хорошим
поэтом – значит почаще заглядывать не только в сердце. Нужно заглядывать и в
кору головного мозга, и в нервную систему, и даже в пищеварительный тракт".
Третья группа – это имажинизм художников. Павел Шугуров, Вячеслав Крыжановский,
Виталий Сёмкин. Разница между первым и двумя вторыми в том, что если Шугуров
опирается на образ, сошедший с оси, и потому едва ли сохраняющий равновесие, так
что глаз не может на нём сфокусироваться, заставляя читателя испытывать чувство
экзистенциального страха, что вот-вот сейчас всё рухнет, то Сёмкин и
Крыжановский всё-таки соблюдают реалистическую предметную картину. Мир
Крыжановского – это как бы то, что уронил Шугуров, а он – Крыжановский –
подобрал, как радетельный старьёвщик, обломки и снова отремонтировал предмет –
видны эти трещины, склейки, гвозди. Он в поэзии – мастеровой. Навесил музейную
бирку, завёл реестр. Его образ лучше созерцать издали и не трогать руками –
вдруг развалится! К этой группе, скажем наперёд, примыкает автор из третьего
поколения серолошадников – Иван Гавва.
Имажинизм Юлии Шадриной и Марии Бондаренко – образец постмодернистского
переосмысления традиционного конвенционального образа, а порой и психологической
манипуляции. Их образы многослойны и вибрируют в структуре речи каждый на своей
частоте, поэтому читателю труднее найти камертон звучания, согласовать их. Тут
действительно нужна культура, чтобы прочесть все аллюзии и реминисценции. Гомер,
Сэй Сёнагон, Катулл, Сафо – их интонации, образы выступают как маски подлинного
лирического чувства у Маши Бондаренко. Психотерапевтические – а не рефлексивные
– раскопки в поэзии Юлии Шадриной приводят к деконструкции лирического
персонажа, не способного испытать ни психологического, ни эстетического
катарсиса от нового переживания старых болячек. Восточная созерцательность
стихотворения "Август отмаялся..." лишь намекает на другую ипостась её
вдохновения. Юлия Шадрина участвует в проекте СЛ с первого по пятый номер,
добралась до двух антологий – "Нестоличная литература" и "Анатомия ангела". У
неё за каждой литературной маской – Серафимы, Анабел Ли – скрывается всё та же
русская Ярославна со своей женской долей – одним словом, поэзия. У русской
поэзии не мужская доля, а женская.
Смертности и остыванию противостоят энергичные ритмы у Евгения Обжарова,
овеществлённые жизнелюбивой иронией. Первичный элемент его поэтического мышления
– образ. "В каждом слове моём простуда", "холодом веет пламя стрекоз", "колечко
белое волос дымилось на виске", "мороз пристаёт к коже, как ночью к женщине
пьяный прохожий", "оглохнув от листопада", "море тихо, как в стакане, мне
облизывает губы", и даже такой японский образ: "и волна неторопливо облетает
цветом вишни", "сумрак с копытами в душу залез", "утро скулящее жмётся к ногам",
"ветер скончался ль от скуки" и многие другие. А вот образец развёрнутого хайку:
"Зрачок в ночи/ светлее неба. Сверчок в печи/теплее хлеба. Он песню странную
поёт./ Кто ж это песней назовёт? Скрип сердца..." Окончание стишка хуже, и
излишне. Из многих его стихотворений можно запросто выкроить замечательные хайку,
то есть стихотворение-образ. Стихотворением-образом может быть и четверостишье.
"Здесь ветер одержим своей зимой, / Холодный, словно космос без звезды./ Но не
здесь ли, одинокий и больной, / Он заметал бессмертия следы?". Ему к лицу
обэриутовская бесшабашность – как "жить взахлёб", но он никогда не доходит до
предметного и онтологического абсурда, всегда придерживается границы видимости и
осязаемости. Правда, он готов поиграть с завязанными глазами в "кошки мышки" с
реальностью и даже на время согласиться, что всё – пустота: "я и ты, он, она,
птичка, травка, в реке вода, свет в окне, ночь, любимая, дождь, цветы..." Однако
к этой буддийской мысли относишься без доверия, когда читаешь раннего Евгения
Обжарова. Поэтому в его поэзии вещь вырастает до образа и никогда не становится
символом. Стихи четвёртого и пятого альманаха (в третьем номере они отсутствуют)
стали тяжелей и плотней, ушла атмосфера города Владивостока, чувствуется низкое
свинцовое московское небо. За этим явлением ещё следует понаблюдать. "Какие-то
бурые лица всё сыпались с веток метро" – это строка звучит как законченное
стихотворение-образ и корреспондирует с известным двустишием имажиста Эзры
Паунда: "Призрачные образы лиц в толпе/ – точно лепестки на сырой чёрной ветке".
В ироничной поэзии раннего Дмитрия Рекачевского образ блистает всеми гранями
юмора в антураже той или иной узнаваемой стилизации (Игорь Северянин, Саша
Чёрный, обэриуты), однако в его парижских верлибрах этот приём уже уходит из
обихода; предметность и обыденность образов не отнимают обаяния его стихов, а
прибавляют им психологической достоверности. Стихи его стремятся не только
рассмешить, но и сказать нечто большее. Они прирастают смыслом, а потому читать
их интересно.
Если образ у Алексея Денисова – продукт чистой субъективности, то образ в стихах
Елены Васильевой выстраивается на противоположных основаниях: он беспрестанно
взвешивается и оценивается рациональностью, он как бы находится на весах веры и
недоверия; это образ тяжести и протяжённости, существующий в "зоне молчания" и
"скорбного бесчувствия", оттого так сильны тоска по теплоте и любви; только
говорение, как акт дыхания, способно отогреть этот образ, становится источником
поэтического вдохновения.
Об имажинизме как таковом в стихах Елены Васильевой даже не приходится говорить.
Нарваться на яркие, как звонкие оплеухи, образы-метафоры за поворотом её стиха
случается очень редко, если просмотреть всё опубликованное за десять лет
творчества. Это – "осень в горле", "и кое-где жирафы фонарей, каких ещё не съел
энергокризис, жуют чернильно-апельсинный пудинг ночи", "караваны мыслей пришли к
водопою", "луна частенько передвигалась на ощупь". Есть ещё текст, где некто
стоящий на холме сравнивается с торчащим в банке ножом. И всё! Такая визуальная
бедность не случайна, и тем более не от бедности воображения. Это другой тип
поэтического мышления, двигателем которого является устремленность к незримому,
или утраченному, или невосполнимому. Это характерно для ранних стихов. В первой
книге стихов 1995 года "Зона молчания" вообще мало предметного мира. В таких
обстоятельствах предметы мира обретают символическое значение. Только однажды в
стихотворении "Центр симметрии" встречается кое-какая конкретика: "кашемировый
шарфик на твоей ссутуленной шее". Кажется, только этот шарфик и пропахшие ветром
волосы и связывает лирического персонажа Васильевой с этим миром. Как легко
провалиться в небытие! Да вот ещё: "Или я твой смех полюбила?" От мира осталось
только шарфик любимого, запах его волос, его смех – три ниточки...
Героиня живёт в камере обскура своей души, в молчаливом доме, от темноты её
спасает собственный голос и скудные образы воспоминаний. "И проходит время как
день и ночь, /и душа в чулане своём поёт, /и приносят в клювиках сын и дочь/в
линеечку радугу, в клеточку самолёт..." Её стихи – это неназванное горе или
умолчание горя. "Как бледен лёд и полынья всё уже, /И как сонет на лезвие
похож".
Писание стихов для Васильевой есть "воплощение реальности из небытия". В этом
направлении эволюционирует поэтика Васильевой от первого альманаха до пятого
номера, стихи постепенно наполняются предметностью и обрастают деталями, которые
режут глаз. Это движение от символического выражения к экспрессии. Читая
непрерывно её стихи, мы как бы присутствуем при медленном проявлении реальности
с негатива фотоплёнки. Проявляются прекрасные образы детства: "Сухой песок
извлечь из сандалий", "Не покраснеть, называя имя/ Старшего брата подруги".
Отдельная тема: образ города в стихах Васильевой.
Героиня наделена неким "седьмым чувством", которое воспроизводит картины,
далёкие по времени или вневременные, или чаще сказочные. "Я трачу время на мечту
и грусть, / На сны и откровения Природы./ Среди шести не выявленных чувств/ Я –
обладатель чувств седьмого рода. // Я отчего-то помню города/ Последних королей
Гипербореи, / и горький вкус запретного плода, / И сладкий стих обрядов
Гименея.// Но глубже глубины земной тоски/ И легче, чем полёты окрылённых, Я
вспоминаю вес твоей руки/ и тёплый отпечаток губ солёных".
В некотором смысле лирический персонаж Васильевой, это странствующий визионер
невидимых нами миров. Правда, порой кажется, что персонаж Васильевой летает туда
на каком-то ржавом научно-фантастическом драндулете, если считать, что стихи –
это есть средство перемещения поэтов во времени и пространстве. "Однажды целый
рой моих иллюзий/ покинет свой унылый тесный край/ и полетит лохматой серой
тучкой/ над старомодным мировым пространством". Пробуждение "седьмого чувства"
возможно только в одном случае – экстатическом, когда "я перестану бодрствовать
и спать". И что тогда? А тогда происходит совершенно невероятное: персонаж из
бедной незнакомой женщины, что сидит взаперти в высокой башне, которую греет
большая надежда и над которой смеются одни волшебники превращается... в
демиурга! "Я стану хореографом погоды, /я стану летописцем для природы, / я
стану сценаристом у судьбы./ И будет время открывать страницы/ и прочитать о
том, что мне не снится, / о том, как мы с тобой учились быть".
Если раньше персонаж Васильевой пребывал в позиции созерцательного ожидания: "От
разлуки до разлуки/ Жизнь моя сплетает звуки/ Золотых неслышных слов", то потом
у него открывается новая способность – писать "перочинным ножом по слову" и
вообще совершать действия, хотя бы выйти в реальность, в город. И это уже
совершенно другие стихи, и другая Васильева. Со временем поэт-демиург начинает
выражаться на странном наречии: "система бесперебойного питания, дыхания,
наблюдения/ если я забуду свой идентификационный номер-пароль-отпечаток". Я бы
добавил сюда ИНН, номер страхового свидетельства, медицинского полюса, паспорта
и т.д.
Прежде поэтический словарь Васильевой напоминал рождественский мешок (тезаурус),
полный сусальных игрушек. Там были муляжи подлинного мира, врученные ребёнку. Он
играл ими всерьёз. Персонажи прошлого – Будда, Байрон, Паскаль, Лао, Моцарт,
Рерих, Конфуций, Мирабо, Борхес, Иисус, волхвы, а также царства – Египет, Фивы,
Колхида, детство, и Город Золотой – стояли под рождественской ёлкой, осыпанные
мишурой. "В королевстве жила игрушечном, /Замки строила из песка. Пела песню
свою старушечью/ Молодая моя тоска". И оказывается, что все странствия
совершались в игрушечном мире, только слёзы были настоящими, подлинными.
Человека лишили большого праздника жизни, а взамен предложили игрушечное
Рождество. Но некто мудрый всезнающий взрослый – кто-то из заоблачных далей –
снисходительно смотрит на эти детские слёзы. Ведь детство – это ещё не подлинная
жизнь, как считается у взрослых, а только потом... Когда? После смерти?
Герой поэзии Елены Васильевой ребёнок-вундеркинд, постигающий в одиночку и
взаперти "искусство чувств и ступени веры"; он учится всего лишь "быть" на этом
свете и изо всех сил верит в магию слова. Её персонаж родственен герою молодого
Мандельштама, его стихов 1908-1909 годов: "Сусальным золотом горят/ В лесу
рождественские ёлки;/ В кустах игрушечные волки/ Глазами страшными глядят...",
"Только детские книги читать, / Только детские думы лелеять, / Всё большое
развеять, / Из глубокой печали восстать". "Нежнее нежного/ Лицо твоё...", "Дано
мне тело – что мне делать с ним, / таким единым и таким моим?", "Душный сумрак
кроет ложе, / Напряжённо дышит грудь... Может, мне всего дороже/ Тонкий крест и
тайный путь".
Это пока что образы сна и воспоминаний о рае; а когда персонаж пробуждается уже
взрослой женщиной ("Сегодня утром меня разбудили чайки"), то мы вместе с ней
обнаруживаем себя в ситуации "здесь и сейчас", которую Юрий Кабанков назвал в
одном устном высказывании вечной смертностью... Прозревание утяжеляет взгляд,
речь течёт медленно, длится "мысле-формой предметной" и, скорее всего, похожа на
застывание... Именно присное вопрошание об истинном – то есть любви – заставляет
поэта взвешивать слово на весах веры и недоверия ("Грусть, забытая на весах"). В
основе её поэтического мышления – логос.
Особняком стоит Александр Белых – он держит этот мир-образ в руках и созерцает
его как издали, так и вблизи. Когда он смотрит на мир издали – он видит его в
широте затухающих ритмов цельным и гармоничным. Когда вблизи – мир изображается
как фрагмент, как деталь, отпавшая мозаика цельной картины мира. Он говорит как
с Богом, так и цикадой наравне. Но не на равных! И речь его зависит от того, к
кому он обращается. Речь – единственное, что связывает его с этим миром. Как
правило, он говорит на языке адресата, в то время как другие говорят только на
своём. И только он знает, куда присобачить это отпавшее цветное стёклышко в
выщербленной картине мира – заметим, на его картине мира!
Ранний Виталий Бурик похож на свои стихи. Кстати говоря, это удивительно, как
поэты бывают внешне похожими на свои стихи. Тогда он писал стихи, похожие на
кружева, слегка вычурные, с душком декаданса, мягкие, чуть женственные. "Слова
плелись, как паутина, долго...", "Сон у Золотых Врат...", "Беглецы". У каждого
поэта своя онтология слова. Прежде для Виталия Бурика слово было звёздного
происхождения, а точнее пеплом, которое осыпается со звёзд. Поэт ощущает не
тепло, а холод. Мне, правда, с трудом представляется, что пепел можно подбирать
с дороги, скорее собирать. Потом оказывается, что это не пепел, а пыльца,
которую отряхивают звёзды. По логике этого стихотворения поэт должен быть пчелой
(чтобы собирать пыльцу). За этим словом тянется цепь ассоциаций, самая ближайшая
из которых связана со стихотворением "Возьми на радость из моих ладоней/ Немного
солнца и немного мёда..."; а вот ещё вспомнилось: "Чтобы, как пчёлы, лирники
слепые/ Нам подарили ионийский мёд...". Это внутренняя, скрыта коннотация,
думаю, не замеченная автором, иначе тема была бы развита. Вообще, Бурик пишет
"медленные" стихи, которые могут быть еще переписаны, они не продиктованы
спонтанным выплеском эмоций, и в этом смысле несут печать концепта. Характерно,
что слово у Бурика не Бог: он говорит "слова плелись", то есть они как данность,
сами по себе, из ничего. "Слова плелись, как паутина, долго, и заплетались за
края вселенной". Возникает ассоциация: слово-куколка, потому что затем "слова
взлетали", видимо, как бабочки на свет "к раскалённым звёздам и осыпались пеплом
на дорогу". Вот откуда у Бурика "стилистика кружев", хотя сгоревших. Небо
равнодушно к этой красоте, а язык поэта груб и сам он оказывается беглецом в
мёртвой пустыне. В этом тексте мне понравилось выражение "медленные звёзды"... В
"Беглецах" есть неточности: "бредит пустыня, качая остовы ковылей". Вроде бы
красивая фраза. Насколько мне известно, ковыль больше подходит к степям, чем к
пустыням. В стихотворении "Музыки крыло, коснувшись уха..." завораживает звук
"у". Интересно, что музыка не связанна с какой-либо семантикой, словом. Это
идеальный текст в его подборке альманаха N3. Хорошо читается стихотворение
"Ленивая муза", самое вещественное, и это понятно, ведь оно обращено к Вячеславу
Крыжановскому, самому предметному автору, владеющему фактурой вещей. В этой
подборке вырисовывается поэтический объём Виталия Бурика: бытовой план,
ментальный план, символический план, концептуальный и идеальный. Какой из них
станет для Виталия Бурика доминирующим? Фрагментарность мысли, несвязанность
образов становится характерной чертой стихов четвёртого альманаха. Вот и фраза:
"Небытие как примета постмодернистского быта". Литературная рефлексия – тема
другого Бурика. Вот ещё одна фраза: "Небо над Берлином кинематографично".
Кстати, в этом тексте (3) какое-то единство обнаруживается, и есть цельное
впечатление о городе Берлине, я чувствую этот город. "Небо молчит", и мольба о
том, чтобы небо молвило слово – это продолжение темы из предыдущего альманаха.
Слово, которое может гармонизировать этот мир, сгорело, остаётся
постмодернистский хлам. Видимо, таков пафос другого Бурика. Художник на то и
художник, чтобы в любом хаосе обнаруживать какой-то порядок, а не просто
фиксировать хаос. Есть поэты, которые преображают все вокруг словом. Бурик
восклицает "Смысла! Осмыслить бы, олюбовить всё вокруг..." Знаменательна частица
"бы". Пафос преображения не для Бурика. Постмодернизм – это приём, превращённый
в игру, забаву. Осмелюсь сказать, что для Бурика – это не приём, а надлом,
горечь по сломанной игрушкой. Новые стихи – это игра со сломанными любимыми
игрушками. Предметный мир тоже сломан. Остаётся "музыки эклектика и застиранная
нежность синевы". И в этом контексте удивительно гармонично стихотворение
"Вода". На то она и вода, что её не сломать. Собственно, образ "воды" стал
символом утраченного слова, музыки, вечности, рая, цельности.
5
Если что и объединяет разномастных поэтов "Серой Лошади", так это даже ни
территория, ни еженедельные четверги на протяжении десятилетия, ни типичные
художественные приёмы, ни имажинизм, ни мировоззрение, ни загробная метафизика
Случевского, а то, что называлось у Юрия Тынянова "домашней семантикой"
применительно к "арзамасскому" и пушкинскому кругу.
Они пишут стихи друг другу, иронизируют друг над другом, посылают бутылочные
письма, спасают и мучают, сочиняют в две руки одно стихотворение – как,
например, Васильева с Сидоровым "Два часа на одной частоте". Бондаренко пишет
Крыжановскому, Зима пишет Белых, Любарская даже видит сны про Дмитриенко и
Сидорова и так по кругу. Однако круг этот не замыкается друг на друге, а ширится
и захватывает всё новых и новых корреспондентов. Само пространство, чуждое,
становится одомашненным, как дикое зверьё у Орфея.
И в этом видится главный смысл творческих усилий поэтов объединения "Серая
Лошадь". Всё это, впрочем, происходит по причине литературного одиночества
поэтов, разъединённых пространством или удаленных от культуры метрополии. В этой
диффузии индивидуальных стилей и голосов происходит что-то своеобычное,
многосложное и новаторское. СЛ – это открытая система. Открытая миру и городу.
Само слово "эскапизм" противоречит поэтической практике авторов, их открытости
сопредельным и далёким культурам. И хуже того немыслимо сказать, что авторы
погружены в донорскую соседнюю культуру по причине удалённости от российской
метрополии. Ибо культура – это, прежде всего, язык. Быть может, этих поэтов
больше связывает не сходность, а расхождение. Я оставляю свою мысль о стихах
наших авторов в этом текучем, незавершённом и акцентированном состоянии.
Остаётся только в конце всего сказанного обнажить маску и подмигнуть читателю.
Что касается стихов, то в суждениях о них царит хаос вкусовщины и давно пора
придумать какую-нибудь цветовую гамму при оценке разной поэзии как при
классификации ароматов. Моя маска была обывательски субъективна, намеренно
тенденциозна, исходила в суждениях из заведомо ложного посыла – одним словом,
она играла на поле литературной провокации. Её заботила не столько истина,
сколько производимое впечатление. Её собственная игра. Читайте, влюбляйтесь и
включайтесь в переосмысление стиха, себя и времени.
ПРИМЕЧАНИЯ
1
Современный свободный стих.
2
Имаго (лат. imago образ, подобие) – конечная (дефинитивная) стадия развития
насекомых; на этой стадии для них характерно развитие крыльев и способности к
размножению. Имажинизм (фр. image) – имажизм – упадочное декадентское
литературное направление в английской и американской поэзии 10-х – 20-х годов 20
века; в России – незначительная группировка (1919-1927). Имажинисты исходили из
формалистического представления о том, что литературное творчество сводится к
созданию словесных образов, каждый из которых имеет самостоятельное значение и
не требует смыслового единства с другими образами, культивировали игру ритмов и
верлибр. (Словарь иностранных слов. Москва. "Русский язык", 1980).
Елена
ЗАЙЦЕВА
Моя прекрасная лошадь
Поэзия как будто перестала пользоваться приёмами искусства: рифма, размер,
просодия были отвергнуты, к ним было проявлено пренебрежение. Понятия
"профессионализм" и "неумение" стали почти синонимами. Поэзии было отказано
быть искусством. Фигуры речи опростились до прямого высказывания.
(Александр Вялых, из предисловия к альманаху)
Немного поцитирую эти "прямые высказывания":
…Резкими спреями
Статья любезно предоставлена
"Железному Веку" ее автором
гипнотическими парфюмами
пробирается в голову бензиновый гул
пластиковая реальность
предлагает выпить на посошок
и срезать капризный бантик
что носила на себе твоя серна
первобытная муза…
(Елена Васильева)
…Натюрмортный ноктюрн
Не звучал никогда.
Многие к этому привыкли
И носят натуральную смерть,
Чтобы согреть денатуратную жизнь
Без акварельных звуков…
(Дмитрий Настич)
…Две взаимонаправленные
Точки пожароопасности,
Добровольцы изведать
Крокодиловой пасти,
Канатоходцы над пропастью,
Стремленье пропасть -
Желанием жить
"От тебя до тебя"…
(Елизавета Пархомук)
…Время и стекло -
Ты рассматриваешь выпуклую
Предметную сторону
На предмет соответствия
Своих ощущений
И вселенского движения
Постижения ожидания...
(Александр Милютин)
Рассматривать это, опять же в предисловии, предлагается с "оптикой
Случевского", который "первым в русской поэзии почувствовал утрату пушкинской
гармонии", стихи его "кажутся неумелыми", в них "нет тайны творчества,
таинственной темноты".
Мне тут, честно говоря, куда более уместной представляется линза кузьминского
"Вавилона", а о Случевском хотелось бы сказать несколько слов.
Да, он считается поэтом прямого высказывания, но совсем не по отсутствию тайны
творчества. Отчасти дело тут в том, что стихи его – высказывания в буквальном
смысле прямые, выдающие что-то такое, в чём и себе-то не каждый признается,
озвучивающие совсем не "поэтические" чувства. "С простым толкуя человеком", он
мог заключить эту беседу таким вот выводом: "Ему – раек в театре жизни, / И
слез, и смеха простота; / Мне – злобы дня, сомненья, мудрость / И – на вес
золота места!". Или, скажем, мог сокрушаться тем, что "Все юбилеи, юбилеи.../
Жизнь наша кухнею разит! / Судя по ним, людьми большими / Россия вся кишмя
кишит...". А отчасти под этим прямым высказыванием действительно понимается
его небрежное отношение к рифме и ритму, но тут важно понять, что это за
небрежность. Ведь ритмические перебои – не отмена ритма, не война с ним.
Напротив, сотрудничество. Они только там и возможны, где есть что перебивать,
где есть ритм, ясное о нём понятие. И "неумелые" рифмы сотрудничают здесь же:
они заставляют на себе замешкиваться, останавливаться. В итоге тот размер, что
берётся за основу, корректируется двумя силами: спотыканиями, которые
происходят из-за какого-нибудь неожиданного, внеметрического ударения, и
остановочками, связанными со "странными" рифмами. Зачем это нужно? Это даёт
возможность изменять скорость строки, переставлять акценты, в целом делает
текст как бы "шершавым", "занозным", исключающим движение по инерции. В этом
смысле Случевский – боец с инерцией, и у него действительно есть будущее. Да и
настоящее есть, – я, кстати, не так давно писала о группе "Оргазм
Нострадамуса", и сейчас подумалось, что очень "случевские" у них тексты:
…А трубачи всё дуют в трубы,
Всё дуют в трубы трубачи.
К их мундштукам прилипли губы
Их невозможно отлепить.
И я прилип лицом к стеклине,
Я тоже дую, весь в поту,
Держась за рамы, дую, синий,
Я всем пою свою весну.
Моя весна – это кошмары,
Это мультфильмы по ночам.
Это бессонница и слёзы,
Это кровавая моча.
Моя весна – это измена,
Депрессия и тошнота.
Клаустрофобия и ужас,
И слепота и глухота.
(Алексей Фишев)
Как будто левой ногой всё это написано, и высказывание такое уж прямое, что…
Но притягивает. И ведь хватило свобод, и верлибры не понадобились. Верлибры
рядом с этим – высказывание хитровыдуманное, и сильно. Во всяком случае,
вышеприведённые. Не поленитесь, вернитесь к "резким спреям", "натюрмортным
ноктюрнам"…
Не то чтобы я верлибрам враг. Меня только вот это "на русский лад" отношение к
ним расстраивает, хоть и понимаю, откуда оно. Нам, на силлаботонике выросшим,
кажется, что верлибр – это какая-то неограниченная свобода, любой текст, делай
что хочешь. Нас манной кашей кормили, а тут такой пир на весь мир… А верлибр
ведь, как и всякое стихотворение, – прежде всего ограничение, несвобода, то,
что организует. Только это другие организующие начала, чем, скажем, в той же
тонике. Другие и разные – их выбирают. Свобода как раз в том, что их можно
выбрать, а не в том, чтобы освободиться вообще от всего. "Выбери себе
несвободу" – говорит верлибр…
Из всего альманаха несвободу себе выбрала только Мария Бондаренко. Это
тоновая, интонационная несвобода. Тон причитательный, и в этом текст
несвободен, то есть он именно причитает, а не танцует, например. Но в этом же
и его суверенитет, отъединение от… от чего? Да вообще от всего. От
неорганизованного пространства, от по-другому организованного.
ЕСЛИ МИЛЫЙ МОЙ
если милый мой меня ревнует – значит любит
если приласкал нежно – значит любит
если бранится – тоже значит любит
то же самое – если пьяным домой припрётся
(хоть и пьяный в стельку, а все ж вернулся)
даже если к стенке лицом отвернулся
делает вид, что видеть меня не хочет, зло бормочет
скажет – иди отсюда, дура
(а куда ж я пойду?)
значит все это, конечно, с любовью
и когда я книжку лежу читаю
или когда сижу смотрю телевизор
всюду все одно – про одно слышу, вижу, читаю
милый мой меня любит, любит и любит
сколько же примет у меня счастливых!
ни одной, чтобы недоброе обещала
сделайте ж боги, чтоб так было вечно
и чтоб в следующей жизни мне больше не родиться
(Мария Бондаренко)
То есть: не верлибр виноват, когда плохо, как и не ему спасибо, когда хорошо.
Но хорошо бывает очень редко. В верлибре – ещё реже.
Так, перечень просто:
окно, лампа, книга, бумага, часы,
карандаш, скрепка, ластик, линейка,
оранжевый нож для бумаги, открытка-
закладка, машинка для свёртывания
сигарет, сигарета, табачные крошки,
конверт, зажигалка…
(Вячеслав Крыжановский)
Вот интересный вопрос: почему причитание я только что определила интонацией, а
перечисление не определю?
Потому что причитание, просьба, молитва – "векторная", направленная штука. В
этом направлении текст и движется. А перечисление – это "скаляр", статика, оно
как камень лежит, и этот камень ещё нужно как-то поднять, куда-то его
направить (покатить!). Поэтому перечисление может быть только под-тоном,
перечислять можно только к чему-то подводя, перечислять, чтобы вывести это
перечисление на что-то другое. Маленький пример хочу привести. Есть такое
четверостишие у ковровского поэта Алексея Салова: "…почему дорога длится /
почему шумит река / почему мне что-то снится / почему у всех бока?". Тут эти
"бока" всё на такие абсурдные рельсы переводят, что жуть. Прекрасная жуть
какая-то. Один шаг до сартровского Рокантена с его "почему надо считать, что
это сиденье, а не издохший осёл, например?".
Покажу, чем заканчиваются перечисления Крыжановского:
…Пейзаж за окном, если выглянуть:
светятся окна, неплотно задёрнуты шторы
в них, мебели части видны и фрагменты и
тени жильцов, выше – трубы и небо.
И ночь начинается.
Было перечнем, перечнем и осталось. Фотографированием окрестностей...
Крыжановский почему-то решил, что будет хорошо, если фотографировать. А хорошо
бывает, если хорошо фотографировать. А хорошо фотографировать – это рисовать!
По пути на работу, где, собственно, теперь и сижу,
внутренний монолог
на тему М.М. Пришвина:
"И я думаю теперь, что..."
Выполз из подворотни поливальный трактор,
перегородил дорогу своей цистерной
с надписью
ВОДА.
(Вячеслав Крыжановский)
Кажется, В. Кожинов сказал: к чему мне чужие чувства, когда у меня есть свои?
К чему мне работа Крыжановского, на которой он теперь и сидит,
если я на своей работе сижу,
вот это, собственно, и пишу,
пусть не о Пришвине, так хоть о Кожинове вспомнила,
и т.д., и т.п., etc…
(Елена Зайцева)
Так всю статью верлибром можно записать, но я сейчас по-другому сделаю.
Верлибр Дмитрия Рекачевского запишу в строку: "Загадал, что эта строчка
принесет мне удачу, потому что если выскочить из вагона еще до остановки
поезда, и бежать, шлифуя курткой бесчисленные повороты перехода с 13-ой линии
на 3-ю на станции Сен-Лазар, то можно, достигнув цели, увидеть еще, как твой
поезд пересадки исчезает в глубине тоннеля, то есть, дает понять, что он
все-таки существует, и что это просто твои человеческие скорости не позволяют
его догнать…". Не понимаю, почему в столбик это (а там ещё два раза по
столько) должно было быть лучше…
Кстати говоря, что такое "два раза по столько"! В альманахе есть текст,
который я так и не смогла дочитать, хоть и знаю, что это неправильно, что
должна была прочесть, раз уж взялась об этом говорить.
жеста о розе закончилась хрипом "Скальд до утра доживет, ибо
ночью даже врагов убивать не должно, в этом даю я конунга слово"
алая диса, полет ее тихий – дата рожденья мента, все молчали
"Срочно сюда приезжай, вся в белом, и поспеши, может статься, успеешь"
смотрит на синее солнце супруга китайского консула
город – Пекин, говорит, дворец – Кубла-хана
"Не пригласите меня отведать доуфу?"
не понимаю – не Кольридж я, и не Васко да Гама…
(Константин Дмитриенко)
Это начало. Продолжение – на шести страницах…
Стихотворение Александра Белых рискну привести целиком, всё-таки не шесть
страниц:
СПРАВКА О ВЕЧНОСТИ № 2004-03-23
"...с уничтожением тела гибнет и душа".
Секст Эмпирик
...Умер человек,
а кошка его живёт.
Жалко кошку, а человека нет.
Человека Бог приберёт к рукам,
это надёжно,
это навечно.
Подумать страшно,
где жизнь начинается и где кончается,
сколько людей рождается,
откуда ж берутся их души,
из каких запасников, есть ли реестр?
Сколько платить за регистрацию,
и в каком департаменте выдают справку
о соответствии души и человека,
его национальности
и сексидентификации
и т.п.?
Ведь души все подотчётны,
как циферки в бухгалтерских книгах,
пфенниг к пфеннигу,
а бесхозных душ не бывает...
Мою же – кто-то обронил,
как копеечку
старенькую
после девальвации августа 1998 года,
не досчитался
кто-то...
Господу до фени – он ведь не скаредный.
Плачет кошка,
плачет...
(Не верьте Эмпирику,
всё это враки,
неуклюжие
древнегреческие
враки!)
(Александр Белых)
Не шесть страниц, но насколько произнесено больше, чем сказано. По хорошему-то
счёту и не сказано ничего, кроме "умер человек, а кошка его живёт"… Мариенгоф
в восемнадцатом году пишет: "Пятнышко, как от раздавленной клюквы. / Тише. Не
хлопайте дверью. Человек… / Простенькие четыре буквы: / – умер". Вот,
собственно, и всё.
Правда, нельзя сказать, что образцов минимализма у нас нет. Есть. Только это
что-то уж совсем из области курьёзов. "Я поперхнулась вашими глазами", – пишет
Екатерина Чегодаева. У меня это одностишие как-то машинально в двустишие
превратилось – "Пока жевала ваши сухожилья" добавилось…
Немногословна Валентина Андриуц. Обычно это пять-семь строк, этакий "японский
аналог" Ларисы Миллер. Андриуц: "Зачем ты меня научил / языку птиц? / Птицы
все улетели. / Никто меня не понимает…". Миллер: "Пишу короткие заметки, /
Сидит воробышек на ветке…".
Вот краткая Екатерина Зизевская: "Я боюсь женщины в белой шубе, / Я очень
боюсь женщины в черном пальто, / Я также боюсь женщины в красном платье, /
Знали бы вы, как я боюсь голых женщин". Хм… А чего нас бояться? :)
И всё-таки курьёзную премию я отдала бы произведению средних размеров и
"среднетрадиционной" формы (по-старому ямб, по-новому без рифмы):
ПИСЬМО
А вы, уже отброшенные миром,
висящие на собственной аорте,
какие вам стихи и песнопенья?
Какие, к бесу, благости о музах?
Шнырять по коридорам мирозданья,
Предчувствуя бессмертную кончину,
И, корча соприсутствующим глазки,
Держать в кармане фигу с маслом постным,
И постную, опять же, строить мину,
И, в результате, – подорвать устои,
И помахав приветственно рукою,
Со знаньем очень выросшего долга,
Убраться в неглубокую могилу -
Вот счастье, что маячит перед вами!!!
(Алексей Кухтин)
Какое хорошее попадание в тон "Вредных советов" Г. Остера ("Руками никогда
нигде / Не трогай ничего, / Не впутывайся ни во что / И никуда не лезь, / В
сторонку молча отойди, / Стань скромно в уголке / И тихо стой не шевелясь / До
старости своей!").
По-моему, и это творение "вредносоветное" какое-то:
Доктор, доктор,
Трогай груди,
Чтобы было тебе мягко.
А сестре не дам банан –
Всё равно меня уколет…
(Юлия Шадрина)
– но тут видно, что так и задумано было. Это, вероятно, "владивостокская школа
наива". И получается, что Остер – её адепт! Адепт и большой популяризатор…
Из поэтов отмечу ещё Евгения Реутова (меня эта "гандлевская ностальгия" и в
оригинале-то не убеждает, не то что в отражении, но сделано аккуратно: "…и
шепчут статуи нагие / певцов усопших "шуба-ду" / у нас у всех был дорогие /
один счастливый день в аду") и перехожу к прозе.
О прозе буквально два слова (прозаиков-то тоже негусто). Воспользуемся-ка
оптикой, которую я называю "Он думает…".
Лев Сысоров думает, что он рассказывает байки.
Юлия Шадрина – что пишет очень жизненные, психологичные рассказы.
Иван Ющенко – что он рассказывает сказки и что с чувством юмора у него неплохо
(…"Красавица", – в третий раз произнес Румпельштильтхен, – "мне нужен
зауэрбраттен с бобами и добрый шнапс из Баварии". Тут Дристенпупхен гордо
отвечала ему: "Этот столик не обслуживается". Рассвирепел Румпельштильтхен,
личина усталого путника спала с него, и он, представ в своем уродливом виде,
закричал: "Ах так. Тогда я превращу тебя в навозного червя, и ты будешь
питаться вечно свежей коровьей лепешкой, пока не поцелует тебя мужчина").
Дмитрий Настич думает, что он что-то думает.
С Иваном Ющенко я согласна (кстати, можно посмотреть этот и другие его тексты
на сайте "Лавка Языков" (http://spintongues.msk.ru/ivan.htm) забавные,
симпатичные).
Выводы? А из доводов, если можно так сказать.
Понятия "профессионализм" и "неумение" могут быть синонимами только в одном
смысле: искусство в том, чтобы скрыть искусство. Буквально понимать эту
"синонимию" нельзя. И не думаю, что когда-нибудь будет можно. Во всяком
случае, до тех пор, пока мы говорим о стихах. О литературном альманахе, а не о
собрании каких-нибудь других текстов.
К сожалению, не прямоту высказывания, а какую-то назойливую пустоту я назвала
бы их общим моментом. Но я рада, что эти сожаления не относятся к одной
поэтической подборке (Марии Бондаренко) и одной прозаической (Ивана Ющенко).
Буду считать, что уже поэтому не зря я эту двухсотстраничную книжку прочла. И
вам, по мере сил, о ней рассказала.
Лена Зайцева (arinazay@rambler.ru), июнь 2006
Евгений ПАНКРАТЬЕВ
Пегас, беременный солдатами
Хорошая новость: поэзия возможна.
Во Владивостоке издан пятый альманах "Серая лошадь",
который участники одноименного литературного объединения хотели напечатать в течение двух лет, а то и больше
Книжка
издана в мягком переплете, небольшого формата, но внушительным, приятным на
ощупь объемом в 250 страниц. Что собой представляет это издание? Зачем оно?
Что оно значит для литературной жизни Владивостока, России и даже всего мира,
а почему бы и нет? Какова его ценность?
Масса
вопросов. Из них, наверное, первый: каким образом подойти к знакомству со
столь разномастным коллективным трудом? Вопрос естественный. Потому что,
начиная с глубокого, точного и игривого предисловия, написанного одним из
авторов сборника, и кончая подборкой сербских трехстиший в японском стиле,
которые сами по себе являются диковинкой и обрамляют основное содержание,
составленное из стихотворений и прозаических текстов двух десятков авторов,
все это предстает невероятным литературным многообразием. Но как в нем
разобраться?
Пример поэта
и переводчика Александра Белых, предложившего изучать творчество
"серолошадников" при помощи некоего вычурного, но эффективного метода, –
пример заразительный. Какой метод выбрать? Самый простой – это метод
вкусовщины: критикуем и выбрасываем все, что не нравится, обращаем внимание на
спорные моменты. То, что останется, и есть ценное. Я бы, к примеру, оставил
стихотворение Татьяны Зимы, посвященное Александру Демину (за его живописность
и гармонию), пару прозаических зарисовок Лидии Чередеевой (за чистоту языка),
"Неразрешенное аудирование" Екатерины Чегодаевой (за эквилибристику в цирке
текста), пару интересных фраз из Алексея Сидорова и Павла Шугурова, слово
"Дристенпупхен" Ивана Ющенко и – ради экзотики – "Париж" Дмитрия Рекачевского
(за его эфемерность) и не в виде текстов, а виде понятия.
Но если не
забегать вперед, то надо начинать разрушать эту книжку по порядку: с
оформления. Типографика заглавия конструктивистская – и это приятный архаизм,
напоминающий о знаменитых альманахах дадаистов. Дизайн обложки в серых тонах,
что уже приелись на прошлых выпусках (архаизм местечковый и не столь приятный,
так же, как и то, что некоторые авторы дали сюда уже опубликованные ранее
тексты – а где новое?). Перевернув книгу, мы увидим, что ее последняя обложка
показывает в измельченном виде узор первой. Красивый узор. Антропоморфный и
сюрреалистический. Но в оптическом трюке повторения видится подвох дурной
бесконечности. Эффект подтверждает игра колонтитула: "Серая лошадь" на левых
страницах и та же фраза на правых, но отраженная в зеркале и намекающая своим
агрессивным рисунком на экзистенциальную тошноту. Опечатки (особенно в
немецких цитатах), скачущие колонтитулы с колонцифрами огорчат, наверное,
только придир. То есть в целом дизайн солидный, эстетский, но из-за своего
авангардизма несколько старомодный. Как увидим, поэзия авторов соотносится с
ним столь же отдаленно, сколь и с городским понятием "Серая лошадь". Хотя
связи с последним более очевидны.
Дом с этим
прозвищем – монументальная разваливающаяся высотка – смотрится символом
торжества государства над свободной поэзией: Сталина над Мандельштамом. В то
же время это престижное жилье в центре города и приют местных писателей,
которых сегодня выселила "Молодая гвардия" (такова расплата за близость с
"белым домом"). В этом смысле "Лошадь" символизирует сложное понятие,
состоящее из советского, новорусского и политкорректного. В широком значении –
такова и современная интеллигенция Владивостока: нелепая, с обветшалым
марксистским образованием, падкая на деньги и рыночный блеск, слабая,
аполитичная и лишенная привязанности к родине. Но в то же время твердо стоящая
на ногах. Интересно, не так ли? В определенном смысле эта "лошадь" – пегас,
беременный (обремененный или оплодотворенный) солдатами. Троянский конь
потомков завоевателей в "азиатском форпосте России".
"Серая
лошадь" – это литературное объединение, созданное во Владивостоке в начале
1990-х, намекает на существование коллектива единомышленников. Все, что на
первый взгляд о нем можно сказать, – это то, что явного единства среди них не
наблюдается. Даже географического. Авторы литобъединения имеют отношение к
Владивостоку скорее в прошлом, чем в настоящем. Больше половины из них
проживают за пределами Владивостока – в Артеме, Находке, Ванино, Москве,
Петербурге, Париже, Цюрихе, Харбине. Во Владивостоке они либо когда-то жили,
учились, трудились, а потом разъехались. "Серая лошадь" стала местом встречи.
Сегодня по большей части виртуальным.
Трудно
сказать, связан ли факт географической разрозненности авторов с особенностями
их некой обобщенной поэтики (если такую можно вывести, не утруждаясь детальным
анализом текстов каждого, – а это делать необходимо, но не на страницах
газеты). Факты миграции – болезненная тема, особенно если посмотреть на нее с
точки зрения конфликтов между привязанностью к родине и зрелостью, творческой
состоятельностью. Стоит ли придавать значение словам местного абстракциониста
Александра Пыркова: "Уезжают те, у кого внутри пусто"? Вряд ли. Человек
свободен. Переезды и творчество – известные способы поддерживать эту иллюзию.
Совпадение
это или нет, но дистанция между литературой и реальностью ("настоящестью")
воспринимается на первый взгляд как основной признак "серолошадников". Поза –
это то, что обращает на себя внимание почти в каждом тексте. Не стоит много
говорить о том, что аккуратное датирование стихотворений, которым увлекаются
некоторые авторы, является лишним напоминанием о поэтических амбициях, а
формально это еще сильнее портит текст, чем подпись художника картину.
Дистанция в самих текстах – чаще всего это намеренный прием. И очень опасный.
Потому что, чем больше игровая дистанция, тем выше давление на текст, который
в случае неудачи становится спертым. Переиграть игру автора не каждому тексту
под силу. Поэтому – до опыта – очень трудно найти в альманахе тексты, в
которых форма превращается в содержание без проблем.
На
субъективный взгляд, вот несколько авторов, которым удается что-то похожее – с
большим или меньшим успехом избавиться от позы: Лидия Чередеева делает чистую
литературу, формально – из серии абсурда. Чистую, как реалистическая поэзия
Дмитрия Рекачевского и проза Льва Сысорова. Но у всех троих эта языковая
чистота скорее показывает пустоту, чем жирность мира – телесного и
идеалистического. Пластичный "гнусавый" и "сопливый" "Псалом" Алексея Денисова
заставляет, помимо прочего, сожалеть, что ныне поэта представили только одним
стихотворением. Тоже пластичный, но сильнее заинтересованный не столько
звонами формы, сколько конфликтами идей Александр Белых. Может быть, еще Павел
Шугуров, который также пластичен и орудует языком как изобразительным
материалом. Мария Бондаренко привлекает литературной честностью, но не
интеллектуальной (которая вообще в этом альманахе редкость и ближе к Белых).
Иван Ющенко
в другой плоскости – на играх красивых стилей. Но очарования ему убавляют
кое-где образная чрезмерность и (или) неровность композиции. Переведенный им
Ричард Бротиган, для сравнения, таких грехов не имеет. Искусство Татьяны Зимы,
которая создает сильные и утонченные образы, в целом звучит фрагментарно.
Стихи ее распадаются на яркие куски. Другое замечание – вычурность языка в
целом. Возвышенные интонации, то и дело возникающие (вроде "как никто никогда
никого не любил"), озадачивают. Не приближение ли это к фальши? Однако всех
упомянутых авторов интересно читать. Тексты их живут своей выдуманной правдой,
отдаленной как от моральных кошмаров, так и от "главных" жизненных забот:
наслаждения и смерти. Возможно, поэтому их тексты редко удивительны и
оригинальны. Хотя, кажется, ждать этого от поэзии наивно и глупо. Метод
"вкусовщины" не срабатывает. Нужно искать другой.
Вячеслав
Крыжановский, Алена Любарская, Елена Васильева, Юлия Шадрина, Катя Зизевская,
Алексей Сидоров, Константин Дмитриенко – они вызывают много разных откликов в
сердце и в уме. Однако сильного внимания не приковывают. Что они есть на самом
деле, эти люди, остается загадкой и после многократного перечитывания.
Возможно, понять это мешает непреднамеренная человечность, частность,
вкрадывающиеся в плоть их поэтических рассказов. Занятный феномен, когда
присутствие, дыхание, тело автора мешают реализоваться возможностям языка.
Когда живое убивает живое. Возможно, еще во время зачатия. Хотя почему язык –
это нечто живое?
Где поэт,
говорящий в полный голос на новом языке? "Мы ждем его появления", – ответил на
этот вопрос доктор филологических наук Алексей Ильичев перед отъездом из
Владивостока на ПМЖ в Санкт-Петербург. Все ждут. Появиться ему сегодня ужасно.
По рукам бьет все: цинизм мировой истории, груз прекрасного мировой истории,
идиотизм современного мира, извращенный образ жизни Владивостока.
Выходит,
поэзия невозможна? Почитайте "Серую лошадь" и узнаете самую свежую информацию
на этот счет. Из первых уст.
__________________________________
"Ежедневные НОВОСТИ. Владивосток"
http://novosti.vl.ru/?f=ct&t=060620ct03
Дата публикации: 20 июня 2006 года
Дмитрий БЛОХИН
Пегому ослику
в связи с 5-ым заездом
Пегому ослику
…всему виною, вероятно,
до третьих петухов – сплошные куры.
Виталий Павлов
1
КТО давно уже сам себе сам и неинтересен –
научился он как-то там жить и привык
не особенно удивляться, что не получится
– и на что я только ещё надеюсь!
у него ведь уже сколько лет
не бывает даже когда с получки,
надоело ловить на слове,
брать с поличным под мысли,
а они всё о том, что такое уже никогда
не напишется, -
тот иной раз посмотрит на рынок искусства и даже истории:
2
все ищут и спрашивают друг у друга весёлых и лёгких песен
или приятных для глаз открыток, добро и свет излучающих,
или щемящих, берущих за душу,
или, если есть время, каких-нибудь небывалых историй,
которые с кем-то всё же как будто случаются…
И только вокруг одного ларька, как правило, пусто.
Практически, он заброшен, товар его никому не нужен…
Подходят какие-то редкие-редкие – вроде бы тоже люди –
каждый с крайне сосредоточенным видом, словно вокруг себя ничего не видя,
пошевелит с сожалением ту или иную кучу давно спрессовавшегося хлама,
отделит слой осторожно, как археолог,
посмотрит на следующий, этот взвесит,
с тоской качнёт головой – дескать, и так слишком много –
бережно прижмёт к себе эту плесень
и так же, кроме как в себя ни на кого никуда не глядя,
уйдёт восвояси, слегка теребя приобретение или даже гладя…
А то – напротив, с собой приносит и ставит сверху, взметнув слой пыли,
свой, свежий, ещё и не пыльный вовсе…
Ну разве лишь слегка запылённый, но не тяжёлой уличной
или, тем более, пылью банкротства,
после которой, уж точно, выглядит хламом и только…
Здесь ведь его уже столько,
что поклонники птичьего пения давно уже поговаривают о том,
что надо бы сюда поселить петушка покраснее…
Но пока лишь ходят поодаль, поглядывая друг на друга –
кто бы, дескать, решился, а там – пособили бы все.
Хозяина нет. Хозяева в тех местах, где торговля, пусть вялая, но идёт.
А тут, по идее, платить бы надо тому, кто не проходит мимо.
А у кого лишние! Да и, если есть, кто же настолько дурак!
Жизнь ведь нынче такая, что не дай бог лохануться – одно слово: рынок.
Тут иной раз даже и не до песен, не то что до этих прессов
(конечно, если не спутать с прессой,
с деликатесом или с прогрессом,
папье и пейсами,
псами и эссе,
СС и СССР…
А слева и справа –
по брату эсеру –
атланты…
Нет, лучше – кариатиды,
ведь эсеркой была и Каплан –
родом, кажется… Да нет, точно – из Атлантиды).
Рухлядь старая… Сколько Букв! Не ленились титаны мысли!
На чувствованьица и настроеньица не отвлекались!
брали быка за рога – быка, не козочку, не барашка!
А то – носорога, или вообще – мамонта!
И – либо клочьями на рогах и бивнях, либо чудовище – в стойло.
За меньшее не брались – не стоило,
мух оставляли птичкам.
…А теперь запустенье такое,
словно весь крупнорогатый и с бивнями скот давно вымер,
да и насекомые – тоже.
Просто пыль здесь никто до сих пор почему-то не вытер…
Нет проблем: чья песенка спета, а чья и поётся – слушай –
хотя бы и нехотя – вот же.
Нет проблем… Чей же это голос? Или, может быть, просто эхо?
Но только почему-то всё требовательнее и строже…
3
А ДРУГОЙ РАЗ и проворчит:
Ищут смысла в словах, смысла слов, соли – в них, не в себе и себя, как это бы
надо…
Отвергая бессмысленность многия слов ради кратких способных возжечь,
ищет спичек и искр высочайшая воспламеняемость блага –
не собьёт его с толку вода, не посеет сомнения речь…
Ни своя, ни чужая… Чужую и слушать не станут:
с нашим праведным гулом в башке что де сможет сказать нам софист-суеслов!
Бог известен: он – с нами, мы – с ним. Пусть все те, кто не с нами, отстанут –
не мешают идти нам подальше от многих и путаных слов!
В толстых книгах толстые пускай и толкут свою мутную воду,
пусть в копчёности наших небес не суют свой лукаво влажнеющий нос.
Коли есть что сказать, будь попроще, а главное – ближе к народу.
Ну а что за народ и куда он зашёл со своей простотой – это праздный вопрос.
Нас уже посмешили однажды: учиться, учиться, учиться…
А теперь и в четвёртый раз снова учиться нам что ли, да? Ща!
Мы уже научились, спасибо… А если каким просвещением и облучиться –
лишь бы с плоским широким экраном, а там – хоть бы лампочкой и Ильича.
Глубока, не надумана и проницательна мудрость людская:
всё одно – пропадать, но мой малый кусок перед смертью отдай!
Да ещё и прибавь – за молчание, голос мой в урну спуская…
Нынче – рынок, тут, сам понимаешь, должна быть взаимная дань.
Погулять, оттянуться ли, влиться ли, пофестивалить ли –
это нам ты уж, дерьмодавильня продажная, днесь обеспечь!
Кому жить, а, пожив, вслед за нажитым и посваливать…
А кому, уж как водится, костью собачьей здесь лечь.
Что же, грамоты этой для жизни собачьей, и правда, довольно…
А об овцах, к примеру, тут нечего даже и пасть раскрывать:
чо ни гавкнешь, получится лишь по-китайски – бишь, грамотно больно:
даже если болит, эту часть как срамную учили скрывать…
То и знаем: сей "труженик тыла" давно уже ходит героем.
Говорить же об этом пристало лишь в третьем лице, со злорадством, а лучше и
невзначай…
Ну, а всех грамотеев по этому поводу как извращенцев мы сами уроем –
не балуй уж наукою, и без того горемычную душу мою не смущай…
4
А ВООБЩЕ-ТО он, как и я, всегда любил цифру 5.
Это у нас, видимо, ещё из советской школы…
Или, может быть, из стишка о превратностях зайкиных выгулов?
(И ведь не только у нас: пятого, в пятницу, возле пятого корпуса, в пять,
пятый "парк" (пятый! – мы не какие-то "двоечники"), пять рублей, каждое пятое
"колесо" – бесплатно; кстати, если надо, там найдётся и "пятка", – из
неофициальной рекламы благословенно неофициального прошлого.)
Ну а, что же касается презагадочной магии нынешней школы, тут ведь тоже
пятёрка замешана.
Не потому ли, что из тройки её (ведь были же честолюбивые и дальновидные
ученики,
не одни только "ироды"!) всегда было легче подделать?
И учителя с легчайшей министерской руки, наконец, извлекли свои далеко
заходящие выводы –
3 и 7 – 11. Может быть, математика и безутешна, но
ничего уже не поделать!
Вот только времён года, говорят, как было, так и будет четыре –
тут пока всё чисто, и не ущемлён ни один школьник.
(Впрочем, мы уже, кажется, перешли от цифр к числам.)
"Хорошо" – это, как известно, самооценка бога.
Перед сном или отпуском. А если ещё и в курортной зоне!..
Вероятно поэтому столько поэтов, как числятся, так и успокаиваются в
хорошистах.
Лишь один, ай да сукин сын, хоть и плохо считал, но какой преотличный, однако,
был шкодник!
До сих пор даже и на чёрный четверг ничего не удаётся притырить –
ни задним числом, ни заочно…
А ведь кто не мечтает о некоем пятом сезоне!
Пятилетки и те обычно заканчивались досрочно.
А одна – даже когда на неё по всем правилам рассчитывали фашисты!..
Но ведь что и до четырёх – тут ведь тоже всё из-под носа порастащили!
Вот – живёшь-живёшь, а до прихода зимы
даже и не догадываешься, что все прошлые были халтурой.
И ещё неизвестно, как там с будущими.
Верно, снова: ни фрукт – ни овощ, ни рыба – ни мясо, пустые щи лишь, да и те –
мимо…
Или – как, одурев от внезапно ринувшейся в гоп-стоп весны,
воспрепятствовать ловкости рук иного весьма симпатичного мима!
Он ведь даже и вслух отнюдь не на это напрашивается.
А наше мерзкое – вечно в собственном соку – лето!
Кто в нём ещё не дурак (дура) дураком (дурой)!
А с чего, спрашивается!
От воды в воздухе, как ни прикидывайся в нём – рыбой, а в ней – птицей, мокрая
квёлая курица!
Наконец, от нагрянувшего и на наши головы полнейшего Болдина
у кого и чего ещё только ни зашевелится и ни защемит!
И тоже – почему, чёрт возьми!
Тут-то и возьмёшь какую-нибудь хорррошшую книгу –
ну вот, думаешь, наконец-то доверительнейшие откровения сатаны
в добросовестнейшем переводе какого-нибудь Давида.
Ну, и убедишься: сам словно и надиктовал ему о себе свою отповедь.
Сам, как чёрт, ухмыльнёшься: поэты опять распевают псалмы –
не пора ли надиктовать им уже и проповедь?
Вот до какого порой доходишь зазнайства! Да ещё и, навскид
прикинув… Ну, не буду, не буду – все и так знают что – не воротите носики…
Но ведь сразу поймёшь: действительно – хуля этот русский! почти тот же
еврейский!
Нет, надо учить китайский!
А то ведь книжка, и в самом деле, уж больно халёсенький.
Чё смеяться-то! Кто ещё в состоянии накатать хотя бы приличный сонет?
Страшно даже представить себе,
сколько раз, как монаху на киче, придётся его переписывать набелых.
От кого ещё там по способностям, и кому там ещё по труду!
Если это вопрос, то, вполне ли скабрезный, но есть и ответ:
надоело лететь с потрохами в трубу – попробуй хотя бы в неё не дудеть,
не роняли её сюда никакие архангелы.
Как ни тянешься перьями ввысь, гравитация самодовлеет, -
и, сердечно лелея симптомы прыщавых депрессий, кто же выдюжит!
Только нечисть, пожалуй, от этого лишь здоровеет, ей вообще – хоть тресни!
И выходит: разве только в поэты и подаваться тем, кто так и не переболеет,
но, как ни странно, всё-таки выживет.
Или: глянешь издали на иное пернатое – цыпа цыпой.
И то, казалось бы, обзавелась насестом, ну и сиди себе, носом поклюкивая.
Так нет же, случайно приблизишься: так и цапается, так и цепляет!
Ну просто гарпия то ли с пере-, то ли с недо-сыпа…
Да ещё и вещая, ведь на гуще чего-то наидостовернейше неизвестного…
И ни проклятья, ни ругань, ни ядовитая критика её уже не вернут на место,
это тебя, наоборот, кудахтанье, полетевшее вслед, убаюкивает… убаюкивает…
Ну и, наконец, усыпляет.
Отойдя, очнёшься, и – если не первое, то, уж точно, пятое – что придёт в
голову
(разумеется, полную зависти!):
у поэтов, должно быть, слишком большое или очень больное сердце -
постоянно его обсуждают, прислушиваются к нему, с ним же обо всём
договариваются…
И ведь если бы хоть один подражал кардиологу! Нет ведь -
все как перепуганные сердечники торопят события в ожидании очередного
инфаркта!
Итак: кто всех лицемернее и безжалостнее относится к этому органу?
Разве пьющий? Или курящий?
Оно конечно, и то, и другое, и даже третье, как правило, обнаружите
(в братстве принято распределять и ответственность поровну),
но если всё это проделывается ещё и певуче и пишучи,
то мы, говорим: Поэты (подразумевая всю партию Аортия Миокарда)!
Хотя мне лично видится что-то вроде кучки одышливо приваливающихся друг к
дружке
сивучек и сивучей.
(Кто ещё не поэт – берегись: заразно.)
Говори же – о сердце,
пой – оно же,
люби – кто ж ещё!
что вообще не оно и, желательно, разом!
(- сугубо поэтическая практичность?)
словом – бейся! бейся! бейся!
наконец, ему же – остановись! потуши свет!
– Опять я?
– Будешь спорить? Неужели, сердце, и ты мне… – Враг!
Понятно: желудок, печёнка, почки, кишки и прочее – это как-то ещё не совсем
поэтично.
С мозгами, к тому же, ещё и скучно.
С головой поэты вообще дружить не спешат, всё больше с нею ссорятся.
К примеру, любовь с мозгами – это даже как блюдо не вкусно,
по всем расчётам – это один сплошной брак, кому это может нравиться!
О поэт – нежнейшая, утончённейшая и ранимейшая душа!
И за что тебе всё это да ещё и сторицей!
Вырывают поэтов цинично-розничной прозой
из почти что райского бреда почти нирванической дрёмы –
со времён Адама и Евы тут всё повторяется!
И психуют поэты: SOS! SOS! SOS! –
ведь ещё самим Лейбницем, то есть научно, уже давно установлено,
что Психеи лишь само- и удовлетворяются, чему поэт и способствует, -
на любой вкус и спрос разработаны, как и самые скромные, так и эффектные позы,
и за "триста минут" (то есть, если не раньше, то уж на пятый, опять же, час,
даже и не наблюдая часов) никто не останется неудовлетворённым.
Да, поэт – парень-гвоздь: в каких только мехах он ни бодрствует!
А спит без трусов.
Но, всерьёз если, что они там кричат,
после третьих, не будучи даже и пятыми петухами, спросонья?
СЭЙВ-АУЭ-СОУЛС ли?
А не спасите ли наши бедные астральные сомы?
То есть – пока не провалились они снова в общий полуад,
отпустите их в свой полурай – всем их полусвятым сонмом!
И догрезились:
кто-то, точно, однажды попутал ню с нью, чище нашего порно из сна!
И теперь там и сям (практикую я новый язык)
нарываешься на умело и ловко расбросанное бельишко поэзии.
Поневоле тебе примерещится в этом какой-то изыск:
я отнюдь не маньяк чистоты, но уж эти мне её белоснежные ризы…
А за сколько был продан когда-то каким-то скопцам целомудрия пояс?
Дня на два-три ли ты, так сказать, не защищена, затворится ли этот твой
творческий кризис?
И на горних ли высях набрёл на творительный этот падёж некий творческий поиск?
Видно, всё же легчает кому-то, помимо меня, от этого-этой нытья-ворожбы –
всё по случаю, а особо без случая счастья-несчастья
бить и гладить себя по головке, подковы словами, слова же подковами гнуть,
не обходится и без божбы (и простит – чо уж там! – даже не уголовка),
коли сам хромоножка Пегас позволяет с собою и так обращаться.
В круге – я извиняюсь, конечно, но – пятом, вполне цирковой лицедей,
с полушага он, клоун и даже факир, одолеет бессонницу публики лишним копытом.
Так что все ухищрения школьно-бухгалтерских наших идей
индустрии бутылочно-беспробудного сна далеко не в убыток.
……………………………………………………………………..
5
НУ И ВОТ: шаг, как будто, наш выровнялся, глядишь, и окрепнет,
ведь к концу пути даже у кляч заезженных случаются приступы резвости.
Ухты-ухты, расхорохорился даже… И ведь не лань, а какой страх-и-трепет!
Словно точно выяснил, чья теперь очередь чей и куда крест нести…
Эх, Шершавый! Ведь не на север, и не на запад, и не на юг, и даже не на
восток, а по кругу
вспять ты вёз никуда, никуда и не ввёз, так хоть вывези, пёстрый осёл!
Если пятое что-то искать, то, наверное, ты согласишься, что всё-таки лучше не
угол…
Ну а в стойле своём ты, похоже, нашёл – и давно уже – всё.
Если так, то и я, не ссылаясь на опыты и ещё более дальневосточных наречий,
героическое ты животное, ставлю тебя коневодам Парнаса в пример, ведь ишачить
– не спать!
А иначе – к бомжовству в вонючем закисшем тряпье не снимаемых противоречий
так и нечего будет добавить под №5.
Поэтический отклик любезно предоставлен "Железному Веку" его автором
Елена
ЗАЙЦЕВА
Вдохновение – вдох
просто. Лошадь – это конь
такой...
+ + +
Вдохновение – вдох просто. Лошадь – это конь такой.
Люблю километровые верлибры, но не до такой степени.
Я приду к тебе снеженной-вьюженной, дорогой.
Хоть время и истекло, – уже меньше, чем нет, времени!
ПО ОСИ ИКСОВ, где каждый из них принимается за тебя,
Непременно приду, прилечу, не воробьём так сорокой!..
Так, перечень просто: в воздухе – корм для рыб, в парке – дитя,
А Кармен – это песня вишнёвого сока…
Пока мухи амурные бродят на цыпочках, ах,
нежности шею цыплячью зачем сворачивать? Мы и не будем!
Смотри, пузырьки газа отрываются от орла…
Смотри, пришли добывать уголь люди!
Но мы никому не скажем, что наша кровь странного цвета, нет.
Отброшенные, висящие, шныряющие, предчувствующие, – догадайтесь сами!
Полуистлевших иероглифов, опять же вишнёвый, бред…
Или точка Вселенной, где лошади обмениваются словами.
Поэтический отклик любезно предоставлен "Железному Веку" его автором
Виктор ПЕРЕСТУКИН
Перепись пиитического имущества
1
Мы же остаемся на пятачке русской цивилизации
и с трудом боремся за культуру своим коснеющим языком
Александр Вялых
Литературный критик Александр Вялых
(он же – поэт, писатель и переводчик Александр Белых) пишет вступительную статью
к поэтическому альманаху ("Серая Лошадь № 5"). Свой критический обзор литератор
называет письмом. Письмо адресует некоему "удивительному китайцу", который через
пятьдесят лет перелистает пожелтевший от времени альманах. И прочтет, изложенное
коснеющим языком, к нему (жителю Поднебесной) послание. Заинтриговав читателя до
невозможности, автор немедленно забывает и про удивительного китайца и про
удивительное к нему письмо.
Критик обещает встать на "ругательную
позицию" противников поэтического альманаха, для того чтобы выяснить причины
"непонимания и пренебрежения". И тут же вычеркивает из памяти сие обещание.
Критик решает заняться философскими
содержанием поэзии "серолошадников". "В чем смысл их творчества? – вопрошает А.
Вялых, – Есть ли у них мысли? Есть ли мировоззрение?" И умолкает, оставляя в
забвении вопросительные знаки.
У критика рождается идея. Всех
авторов альманаха он предлагает рассмотреть через призму поэзии Случевского,
книгу которого он совершенно случайно прочитал. И – надо же! – все авторы
альманаха оказываются прямыми последователями умершего сто лет назад поэта. По
двум причинам. Во-первых, в последователи Случевского все они зачисляются "за
неясность мыслей и небрежность языка". Во-вторых, за то, что "никто из авторов
альманаха никогда не читал стихи этого русского поэта". Легкость в мыслях
необыкновенная!
"Помнят ли наши авторы, в какой
круг ада поместил Данте поэтов?" – спрашивает неугомонный исследователь
альманаха. И моментально забывает про заданный поэтам вопрос, оставляя в
полнейшей прострации и их, и удивительного китайца, и весьма удивленного Данте.
Внезапно (здесь все происходит
внезапно!) выясняется, что злополучные "серолошадники" всем своим пятым
альманахом пребывают в "экзистенциальном аду". В каком именно круге – загадка,
но испытывают поистине нечеловеческие мучения. Кто-то пьет "медовое молоко
козы Хейдрун", кто-то "наживает капитал на верлибрах", кто-то "радостно
прыгает через кровавые лужи"… И все поголовно пишут картины инфернального
бытия. Этакий повальный и беспросветный декаданс: "Кухтин вовлечен в процесс
смерти… Алексей Сидоров живет в этом аду как "прекрасный карась"… Виталий Бурик
заслушался адскими песнопениями"… Подобные доказательства занимают около
трех страниц, после чего "смысл творчества этих авторов становится чуточку
внятным".
Казалось бы – точка?
Ан нет! Критику попадается под руку еще
одна книга. Едва ли не столетней же давности статья имажиниста Шершеневича
провозглашает: "аритмичность, аграмматичность и бессодержательность – это три
кита поэзии грядущего завтра". Воистину, есть опасные книги! Весь загробный
хор "Серой Лошади" немедленно переоформляется в имажинисты.
Каждого автора, поименно, вызывают из
строя и доходчиво объясняют, почему он теперь имажинист. Примерно так:
"Имажинизм Юлии Шадриной и Марии Бондаренко – образец постмодернистского
переосмысления традиционного конвенционального образа, а порой и психологической
манипуляции". На это уходит еще около пяти страниц. Но статья не
закончена!.. Нас ожидает очередной головокружительный поворот.
"Если что и объединяет
разномастных поэтов "Серой Лошади" так это ни имажинизм, ни мировоззрение, ни
загробная метафизика Случевского, а то, что называлось у Юрия Тынянова "домашней
семантикой" применительно к "арзамасскому" и пушкинскому кругу". Проще
говоря – ничего их не объединяет. Кроме взаимной стихотворной переписки.
И вот теперь, когда наконец-то все
окончательно прояснилось, – "этих поэтов больше связывает не сходность, а
расхождение", – автор вдруг (опять вдруг!) игриво заявляет: пошутил! Это
была "литературная провокация".
2
Поэзия – это самовысказывание в поэтической форме,
в какой прихотливо выражается дух.
А. Вялых
Масло – это материя в масляной форме,
в какой прихотливо проявляется Масленица.
Матроскин
"Эзра Паунд считал… Однако Хьюм не
разделял… уместно вспомнить Ломоносова… образ – vortex… "фанопея", "мелопея",
"логопея"… Олдингтон называл… Флинт называл… вновь вспомним русских имажинистов
– Сергея Есенина, Рюрика Ивнева, Анатолия Мариенгофа, Вадима Шершеневича…
Вспомним Иосифа Бродского… ленинградского поэта Геннадия Алексеева… трактаты
удивительного человека Александра Туфанова… продолжателя Велимира Хлебникова…
Даниил Хармс говорил о текучем мысле-образе… Все это я проговариваю
скороговоркой…"
Невнятная псевдонаучная скороговорка
и коммивояжерский нахрап – примета нашего времени. Обычно в такой манере
пытаются всучить какой-нибудь китайский пылесос, или приглашение на лохотрон,
или сектантскую брошюру. Энергичный молодой человек хватает нас на улице за руку
и взахлеб начинает рассказывать про обогреватель "с КПД равным триста
процентов". Он сыплет какими-то удивительными формулами, ссылается на все три
начала термодинамики, клянется именами Нернста и Карно… Он сводит нас с ума. Он
наседает, он оглушает, он чувствует: сейчас мы полезем за кошельком. Хотя
достоверно знаем, что КПД не может быть больше единицы…
Каждый, кто даже бегло перелистает
любой из альманахов "Серой Лошади", легко заметит, что унылое резонерство г-на
Случевского совершенно нехарактерно для поэтов этого круга. Муза философических
ламентаций, над которой так безжалостно потешались современники Случевского, (и
тем загнали его в длительное литературное подполье) встречается и во
Владивостоке. Например, в стихах небезызвестного Бориса Лапузина.
Людишки чахлые, – почти любой с изъяном!
Одно им нужно: жить и не тужить!
К. Случевский
Они ведут бесовскую игру,
И все у них просчитано заранее...
И длится, длится пытка на миру,
И бесконечно русское страданье.
Б. Лапузин
Будем верить: день тот глянет,
Ложь великая пройдет,
Горю в мире тесно станет,
И оно себя убьет!
К. Случевский
Над торгашами здешних мест
с их совестью за деньги
входила, выставив в протест
все стаксели и стеньги.
Б. Лапузин, "Каравелла"
Подобные перепевы у Лапузина можно
находить страницами. Но "серолошадники" – с их погруженностью в формализм, с их
иронической отстраненностью от всякой "гражданственности"… Им то, спрашивается,
для чего навязывать в прародители полузабытого "гения общих мест"? (В скобках
заметим: Случевскому случалось писать и более удачные строки. Действительно
талантливые. Но совершенно не близкие тому, что мы видим в отрецензированном
альманахе).
Для чего, спрашивается, искать в
поэтике Случевского признаки постмодерна (!) и производить из нее же русский
имажинизм? А затем судорожно запихивать в имажинисты всех кого только удалось
припомнить: и всю "Серую Лошадь", и Гоголя, и японских поэтов пишущих хайку, и
Томаса Элиота…
Прежде чем ответить "для чего",
поговорим немного об имажинизме. Ибо у Александра Вялых мы находим и на этот
счет премного любопытнейших рассуждений.
3
Да простят меня просвещенные читатели
за несколько культуртрегерский пафос.
Александр Вялых
"Вадим Шершеневич в статье "Кому я
жму руку" (1924), писал, что "аритмичность, аграмматичность и
бессодержательность" – это "три кита поэзии грядущего завтра"… И вот, дорогой
читатель, если ты возьмёшь за руководство это высказывание русского имажиниста
Шершеневича и прочтёшь с этими лекалами стихи наших авторов, то наверняка
согласишься, что владивостокские поэты 90 – 2000-х годов давно культивируют
поэтику имажинистов. Все "три кита" присутствуют!"
Это, как вы уже поняли, очередная
цитата из "удивительного китайца". Здесь, вместо того, чтобы объяснить, что
именно Шершеневич понимал под аритмичностью, аграмматичностью и
бессодержательностью, А. Вялых начинает вдруг рассказывать про зарождение
американского имажинизма. О котором Шершеневич, при написании своих программных
статей, не имел понятия.
Вообще, важно заметить, что русский
имажинизм по сути своей не имеет ничего общего с западным. Главный его теоретик
Вадим Шершеневич начинал свой путь в поэзии как футурист, как последователь и
пропагандист небезызвестного Маринетти (и даже его гид и переводчик в России).
Позднее, перессорившись с кубофутуристами (Лифшицем и Маяковским) в кругу
которых он претендовал на лидерство, Шершеневич начинает яростно отрицать
теоретические установки кубофутуристской "Гилеи" (весьма и весьма расплывчатые)
и выдвигать в противовес им новые – уже имажинистские. Никакого "эстетического"
конфликта здесь не было. Исключительно – столкновение лидерских амбиций.
"Футуризм издох… футуризм говорил о
форме, а думал только о содержании… надрывная нытика Маяковского, поэтическая
похабщина Крученых и Бурлюка… Всякое содержание в художественном произведении
глупо и бессмысленно…" – первые имажинистские манифесты состояли из проклятий
футуризму и туманных рассуждений про Образ, и Только Образ. Между тем в лирике
Шершеневича продолжали явственно слышаться "футуристические" интонации
Маяковского:
Это вашим ладоням несу мои детские вещи:
Человечью поломанную любовь и поэтину тишь.
И сердце плачет и надеждою блещет,
Как после ливня железо крыш.
Понимая, что для провозглашенного
им течения нужны какие-то радикальные отличия, Шершеневич сел за теорию.
Здесь-то и начали высасываться из пальца аритмичность, аграмматичность и
бессодержательность. Что имелось в виду?
В частности, преднамеренное (а вовсе
не случайное, по неряшливости, как это истолковал А. Вялых) искажение
грамматики: отказ от глаголов, предлогов, наречий, новые формы существительных.
"За расстегнутым воротом нынча волосатую завтру увидь!"
Не просто бессодержательность, а "лирический динамизм",
какофония образов.
"Стихотворение не организм, а толпа образов; из него без
ущерба может быть вынут один образ или вставлено еще десять".
Не просто аритмичность, а свободный стих, построенный на
ритме "первоважных" лейт-слов (изобретение Шершеневича). И еще пара необходимых
цитат из "Листов имажиниста".
В имажинистических стихотворениях
нет ни одной строки, которую нельзя было бы понять при малейшем умственном
напряжении.
Для имажинизма скорбь – опечатка в книге бытия. Искусство должно быть радостным.
Итак, имажинизм по Шершеневичу – это
победа образа над смыслом и освобождение смысла от содержания. Хаотическое
нагромождение логически несвязанных образов. Простота и плоская наглядность
каждого отдельного образа. Авангардное, вычурное использование грамматических
форм. Нарочитое выпячивание "динамизма", оптимизма, урбанизма…
Казалось бы – что может быть дальше
от отрешенно-созерцательной, далекой от городской и всяческой суеты поэтики
хайку? Поэтики скупой, чурающейся каких-либо метафор и ярких красок, но при этом
глубокой, наполненной вторыми и третьими планами? Поэтики консервативной, строго
соблюдающей многочисленные каноны?
Однако у А. Вялых читаем: хайку – "прообраз
имажинистской практики". Странное заявление. Русские имажинисты никогда не
пытались переводить японскую поэзию. В начале двадцатого века классическая
японская лирика вообще была непонятна. Тогдашним вкусам (а уж имажинистским – в
особенности) совершенно не соответствовали видимая их бесхитростность
(воспринимаемая как наивность), крайне экономное употребление эпитетов и
метафор. Непонятными оставались подтекст и аллюзии сокрытые в лирических
миниатюрах. Специалисты же считали стихотворения хайку непереводимыми, ибо
только-де глубокое знание японской культуры позволяло понять, что сказано в
стихотворении "помимо слов".
Все это – вещи хорошо известные
каждому мало-мальски интересующемуся японской классической поэзией. Однако А.
Вялых (автор многочисленных переводов хайку) настойчиво твердит о родстве
русского имажинизма и эстетики "саби"; о суггестивности и о "прямом
высказывании" – как о характерных чертах в поэзии "Серой Лошади". Все в кучу.
Дело подчас доходит до совсем уж анекдотических комплиментов.
"…его (Алексея Денисова) стихи
напоминают развёрнутые хайку, если представить себе, что хайку – это сжатая
пружина, то его стихи – это хайку с высвобожденной энергией. Японское
стихотворение в жанре "хайку" – это образец стихотворения-образа. Стихи Денисова
можно урезать до трёх образов, чтобы получилось трёхстишие".
Судя по всему, поэта хвалят за
многоглаголание... И еще одна странность. Если хайку – это "образец
стихотворения-образа", то почему стихи Денисова надо урезать до трех
отдельных образов?
Вопросов немало.
4
…заботила не столько истина,
сколько производимое впечатление.
Александр Вялых
Для чего же сочинялась эта
удивительная статья? Уж, конечно, не шутки ради.
Поиски глобальной идеи объединяющей участников
"Серой Лошади" были начаты еще в ее четвертом альманахе, который начинался и
заканчивался рассуждениями о том, существует ли владивостокская поэтическая
школа. Таковая была обнаружена и подробно описана Марией Кавалеровой
(Бондаренко) как "школа большого наива, или школа эскапизма". Надо сказать, что
гипотеза о всеобщей эмиграции владивостокских поэтов из реальности в
разнообразные убежища "наива" была изложена с куда большей виртуозностью и
филологической грацией, нежели вышеизложенная версия о повальном имажинизме.
К дискуссии о владивостокской
поэтической школе тогда подключились известные московские литераторы: Данила
Давыдов и Дмитрий Кузьмин. Статья последнего так и называлась: "По поводу
Владивостокской школы".
"На чем строится региональная
литературная школа? – спрашивал Кузьмин. – Прежде всего, на общем
ориентире в предшествующей литературной традиции, к которому авторы, образующие
школу, пытаются по разному отнестись. … объединяющим фактором ивановской
литературной школы служит опора на творчество обериутов… Свой пратекст есть и у
воронежской поэтической школы: это поздний Мандельштам…".
Видимо отсюда и берет истоки
"несколько культуртрегерский пафос". Необходимо было отыскать и предъявить
богатую родословную "Серой Лошади", каковая (родословная) и подтвердит всему
миру ее (Лошади) высокие поэтические кондиции!
Обериуты заняты? Мандельштам тоже…
Тогда берем простоявшего пятнадцать лет на полке непрочитанным Случевского и…
ну, хотя бы имажинистов! Берем у Остапа Бендера "восточный орнамент", – пусть
это будет японский орнамент! – добавляем сюда всеобязательные рассуждения о
постмодерне и эстетических технологиях, сюда же древнекитайского поэта Ван Вэя с
его идеей поэзии как узора, австро-венгерского экспрессиониста Тракля, с его
темой смертности, элиотовского Пруфрока, с его подколесинскими комплексами…
Скороговоркой перечисляем: Соловьев, Андреевский, Х. Дулитл, Эмми Лоуэлл, У. К.
Уильямс, Бунин, Олеша, шекспировский Фальстаф, Гомер, Сэй Сенагон, Катулл, Сафо…
Вали кулем!
Теперь пропускаем "наших поэтов"
через образовавшийся "насыщенный раствор" и – вот очередная версия
владивостокской поэтической школы! С "пратекстами" и "объединяющим фактором".
Вы не впечатлены? Ну что же. "Я
лишь даю направление для самостоятельной мысли".
5
Когда у кого заболит сердце и отяготеет утроба,
взять мостового белого стуку 4 комка,
светлого тележного скрипу 8 золотников,
вежливого журавлиного ступанья 4 турецких меры,
мелко истолочь, принять в полночь и потеть 3 дни на морозе.
Лечебник на иноземцев, XVI в.
И все-таки – имеется ли в поэтике
"серолошадников" что-либо общее, или его нет совершенно? Попробуем и мы это
общее поискать, тем более что "направление для самостоятельной мысли" нам
было задано. Начнем с небольшого стихотворения.
Лечебник на витийствующих соотечественников, XXI в.
1
Натюрмортный ноктюрн
Не звучал никогда.
Многие к этому привыкли
И носят натуральную смерть,
Чтобы согреть денатуратную жизнь
Без акварельных звуков.
2
Резкими спреями
гипнотическими парфюмами
пробирается в голову бензиновый гул
пластиковая реальность
предлагает выпить на посошок
3
в рефлексии на массовую культуру
кухонным скальпелем по суконному рылу
дешевым калачом по испытанному ряду.
4
Это как бы транскрипция
вербальной поэзии на невербальный
язык глухонемых с упрощенной,
а то и упраздненной грамматикой,
похожей на китайский язык.
5
Образец постмодернистского переосмысления
традиционного конвенционального образа,
а порой и психологической манипуляции.
Авторы:
1. Дмитрий Настич;
2. Елена Васильева;
3. Виталий Бурик;
4 и 5 Александр Вялых.
Последние два фрагмента –
прозаические, из уже полюбившегося нам письма для удивительного китайца. Три
первых – выдержки из лирических стихотворений. Кажется, во всем этом что-то такое
есть…
Стремление придать тексту
многозначительность, "интеллигентность" путем концентрации "непоэтической"
лексики, всевозможных поэтических "кодов", культурных стереотипов, символов –
трюк настолько примелькавшийся, что уже не опознается как всеобщая болезнь без
подсказки, которую счастливо дает нам Александр Вялых.
Другая его подсказка – жанр перечня.
Назойливое построение в ряды понятий и предметов совершенно случайных,
встречается в последнем альманахе во всех и всяческих разновидностях.
Я снова – Каин,
Я – бунт предтечи,
Я – поперечье поперечий,
Я – край окраин.
(Елизавета Пархомук)
я бледный на вид
человеческий принцип
я ум, честь и совесть
сказать по японски –
я кокоро
………………
я памятник гоголю
ленин в разливе
я черный монах
я строка трипитаки
(Елена Васильева)
Я гений пламенных речей
Я господин свободных мыслей
Я царь бессмысленных красот
Я бог исчезнувших высот
Я господин свободных мыслей
Я светлой радости ручей.
(Даниил Хармс)
Подобные стихотворные описи Даниил Хармс начал составлять еще в тридцатые годы прошлого века, обосновывая "реестровую" поэтику теоретически: "Любой ряд предметов, нарушающий связь их рабочих значений, сохраняет связь значений сущих... Такого рода ряд есть ряд нечеловеческий и есть мысль предметного мира".
уж не мы ли мыли раму перед пасхой
уж не мы ли разукрашивали яйца
уж не мы ли натащили декораций
уж не нам ли в чинном прошлом не укрыться
(Виталий Бурик)
О символе в отличие от знака,
о предсимволизме, о тяготении
к метафоре, о существовании в системе -
разговоры ночью в комнате 336.
(Вячеслав Крыжановский)
о ретроградной венере,
о квадратуре солнца и марса,
о напасти луны на цветущие вишни,
о морщинке пульсирующего в надбровье вальса,
о лампочке на твоем потолке за окном
(Евгений Обжаров)
Разбуди бессонницу в пять утра
Разговори тряпичную куклу
Разгадай шепчущих китайцев
Развяжи бумажных медведей
Расставь по местам чайные чашки
Разожги зелёный чай на полу
Разбросай четырёхлистный клевер
Раскрой круглые книги
Разбежись буквами по бумаге
Раздели дни на до и после
Раздай себе качели
Рассмейся шмелиными дождями
Разуйся в пустом трамвае
Стихотворения написанные в жанре перечня напоминают тесты Роршаха. Это очень удобно для авторов. Поскольку читатель, получив нужный намек, может опознать в таких произведениях все что угодно. Вышеприведенное стихотворение Екатерины Зизевской называется "Когда уже не нужно расчёсывать Чеширского Кота". С той же степенью философской глубины оно могло бы называться "Когда уже не нужно купать Красного Коня", или "Когда уже Нечего Предложить для Печати". Или просто: Vita Nuova, как это сделал Алексей Сидоров для своего варианта той же самой темы:
носить черные очки, отпустить бороду,
отказаться от прежних фамилии, привычек, круга друзей,
неузнанным вечерами гулять по городу,
заходить иногда в пустынный областной музей;
забыть номера телефонов, пароли, явки,
посещать всегда одно и то же кафе,
на результаты футбольных матчей изредка делать ставки,
пригласить в кино кого-то из юных фей -
первокурсниц местного университета,
снисходительно слушать о литературе восторженный бред -
"к стыду своему не отличу Тютчева от Фета" -
совершенно искренне сказать в ответ;
дома смотреть телевизор, гладить кошку,
понимая, что все тревоги – ни о чем,
и если хотеть чего-то еще немножко,
то вовсе не помнить о прежнем себе, другом
Списки и перечни выскакивают отовсюду. Здесь и инсталляции Лидии Чередеевой, и "Неразрешенное аудирование" Екатерины Чегодаевой, и "заговоры" Татьяны Зимы:
выдави из меня зверя – раба – гада
млеко полыни – кровь комара – жабу
муравьиные яйца – жало – смех – влагу
рафинад страха – суку – стерву – заразу
выдави дуру – тварь – идиота
третий глаз – рыбьи жабры – урода
мертвеца – тирана – издёвку
страсти – хохот – позор – верёвку
выдави во мне кровь – тоску – печень
выдави из меня всё чтобы нечем
было излагать изрыгать давиться
чтобы нечем было с тобой проститься.
В наиболее радикальном проявлении этот сорт поэзии пытается притвориться философией. Из абсолютной семантической пустоты должна, по мнению автора, возникнуть некая всеобъемлющая полнота смысла:
Так, перечень просто:
окно, лампа, книга, бумага, часы,
карандаш, скрепка, ластик, линейка,
оранжевый нож для бумаги, открытка-
закладка, машинка для свёртывания
сигарет, сигарета, табачные крошки,
конверт, зажигалка.
(Вячеслав Крыжановский)
Если это так... Боюсь, что число философствующих поэтов будет быстро прирастать.
6
На этом следовало бы остановиться.
Перечень – вот она суть пятого альманаха! Но – увы! – (но – к счастью!) альманах
не исчерпывается версификационными головоломками и актами поэтической
инвентаризации.
7
Пронзительная, исповедальная лирика
представлена в альманахе поэтами, принадлежащими к "Серой Лошади" весьма
условно. И, быть может с силу этого, не охваченными всеобщей инфекцией. Лирика
хорошая и разная.
Меланхолическая самоирония Дмитрия
Рекачевского:
Иногда (хотя можно сказать, часто)
когда что-то ноет в моей душе
(или точнее, когда ничего уже не ноет
и вообще не подает никаких признаков жизни в моей душе),
я спускаюсь на улицу,
иду к ближайшему банкомату
и становлюсь богаче на 50 евро
(или беднее на 50 евро, что тоже верно).
Я двигаюсь в направлении площади Пигаль
и через некоторое время снимаю проститутку
(или это она меня снимает).
Она ведет меня домой
(или это я веду ее домой),
где предлагает мне свою любовь
(или это я предлагаю ей свою любовь,
и даже навязываю ей свою любовь).
Через полчаса (или любой другой отрезок времени),
когда город, чтобы не исчезнуть в сумерках, зажигает огни,
мы расстаемся навсегда
(точнее сказать, еще раз расстаемся навсегда).
Она улыбается мне (или не мне,
или это я ей улыбаюсь,
или каждый из нас улыбается чему-то другому).
Когда она уходит (точнее, когда я остаюсь один),
я долгое время сижу на кровати и смотрю на закрытую дверь
(так и хочется сказать, что это дверь смотрит на меня
своим увеличительным глазком с полуприкрытой крышкой)
и ни о чем не думаю
(хотя можно сказать иначе).
Гротескные, "приговские", размышления Марии Бондаренко над картинами повседневного женского ада:
повстречала в клубе вчера спортивном
– что твоя тойота поджера статью
груди упругие средних размеров
ни одна другой ни меньше не больше
бедра округлые как литые
кожа без дряблости без изъянов
холеная, выделки не дешевой
– может глупа хоть она как пробка!
мой-то меня и такую любит
я за то ему благодарна но эти
бедра покатые без целлюлита
грудь обкатанная словно морем
кожа как тонкой выделки кожа
и глаза у нее и губы и руки
все продумано до мелкой детали
рядом стоять мне было так стыдно
милый мой меня любит сильно
дофига поклонников у меня но эти
бедра покатые без целлюлита
груди и т.д.
Насыщенные, афористичные и в то же время легкие, a-la Алексей Цветков, стихотворения Евгения Реутова.
я мерз в тулупе парился во фраке
носил и несношаемый спинжак
я был когда-то состоящим в браке
и за детей подъемлю свой кружак
вчера они агукали в кроватках
любили всласть похныкать попищать
а завтра сядут в водочных палатках
уедут инородцев зачищать
пусть завтра будет лучше послезавтра!..
и деморализованная рать
пускай уйдет на свой беспечный завтрак
ведь завтра уже поздно ать-два-ать
проспав дуэль стою у океана
какая жизнь, какая пустота!..
кружится морось в воздухе piano
на километр – ни одного мента
погас окурок и пуста мамона
гуляет в море рыба-долото
кто ты такой чтоб гневать Посейдона
похожего на дедушку пихто
Наверное, на фоне "перечней
просто", стоило бы поговорить о рефлексиях Юлии Шадриной, старательно окутанных
мягкой, "женской", иронией. О горячечных, страстных, буйных, исповедальных
причитаниях Татьяны Зимы. Но не станем, поскольку они не влезают в нужные
клеточки.
Ибо мы, вслед за Александром Вялых,
старались отыскать всеобъемлющее сходство, стройную схему.
Ибо без нашей схемы – что в сочинениях
приморских поэтов сможет понять пока еще не родившийся, но уже такой нам родной
"удивительный китаец"?
Статья любезно предоставлена
"Железному Веку" ее автором